|
||||
|
|
НОЧНЫЕ БРОСКИ ТОЩИЙ КОШЕЛЕК ПУШКА СТЕФАНА БАТОРИЯ СОНАТА ДЬЯВОЛА НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ ОПИЯ ЦИРКОВАЯ НАЕЗДНИЦА РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ АНАТОМИЯ ДИАЛОГА В ОРЕХОВОЙ СКОРЛУПЕ ОПЕРАЦИЯ В ПОЛЫНЬЕ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПОЛА МОРФИ ЧАСТЬ ВТОРАЯ 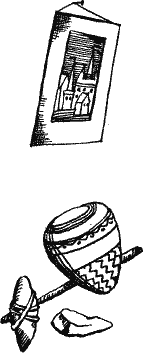 НОЧНЫЕ БРОСКИ В обычных условиях человек, собирающийся спать, ложится в постель. Но если условия необычны, а спать хочется, человек может спать в любой позе. Пассажиры автобусов или электричек спят сидя в креслах и на скамьях; к сожалению, может заснуть за рулем и водитель. Часовой может заснуть стоя, опершись на винтовку. Солдаты спят во время марша на ходу; на ходу спали Фритьоф Нансен и его спутники, шагая на лыжах сквозь безмолвие Арктики. В прежние времена булочники месили тесто во сне. И водителей, и пассажиров, и булочников, и путешественников, и марширующих солдат — всех усыпляет одно: монотонность. С усыпляющим действием ритмично повторяющихся «раздражителей» мы сталкиваемся, едва появившись на свет: нас укачивают, чтобы мы поскорее заснули. Если никого нет поблизости, мы сами себя укачиваем, напевая себе колыбельную песню. Нередко маленькие дети, чтобы заснуть, тихонько и ритмично тыкаются головой в подушку. Маленькие обезьянки, отнятые у матерей, тоже укачивают себя сами — они припадают к земле и ритмично раскачиваются из стороны в сторону. Колыбельные песни и укачивание существуют у всех народов и существовали всегда: в природе нашего организма заложена способность успокаиваться и засыпать под монотонные ритмы. Монотонные движения в сочетании с монотонной музыкой могут погрузить танцующих в сомнамбулическое состояние. Нагоняет сон даже монотонное двигание челюстями: усыпляет не только переполненный желудок, но и сам процесс его наполнения. Но вот мы засыпаем. Голова клонится на грудь, глаза слипаются, книга выпадает из рук. Мы подхватываем ее, читаем одну и ту же строчку несколько раз. Книга уплывает, и мы уже спим, окончательно спим. Мышцы наши расслабляются одна за другой. Как только очередь доходит до мышц глотки, начинается храп. Если мы лежим на спине, храп усиливается из-за того, что западает куда-то задняя часть языка. Предотвратить храп так же невозможно, как предотвратить тайфун. Старики и дети часто спят с полуприкрытыми глазами, китайцы тоже: такое уж у них строение глаз. А что, спросите вы, проку в закрытых глазах, если уши все равно открыты? Уши, оказывается, не совсем открыты. Во время сна в среднем ухе расслабляется крошечная мышца, и необходимое взаимодействие между косточками, которые воспринимают звуковые колебания, нарушается. Вот почему мы преспокойно спим под журчание не слишком громких разговоров — мы их совсем не слышим. Зато мы отлично слышим свои внутренние голоса. Часто люди во сне оживлены и возбуждены до такой степени, что просто не верится, что они спят. Они разговаривают, улыбаются, смеются, плачут, стонут, чмокают, морщатся, вздрагивают, жестикулируют, скрежещут зубами. Людей, которые бы не двигались во сне, не существует. У Клейтмана был один студент, который мог на пари заставить себя провести ночь без движений. Наутро он выглядел совершенно изможденным: он ведь в сущности не спал. Неврологи не поленились подсчитать, что здоровый человек совершает за ночь в среднем двадцать пять разнообразных движений, причем двигательная активность возрастает циклически, каждые полтора часа, подчиняясь чередованию медленной и быстрой фазы. Почему мы не в состоянии спать неподвижно, тем не менее точно еще неизвестно. У всех людей бывают во сне так называемые миоклонические подергивания — резкие сокращения мышц. В быстром сне они нередко сопутствуют быстрым движениям глаз. Если они случаются во время стадий дремоты и сонных веретен, они охватывают тогда несколько мышечных групп сразу, и спящий совершает резкие движения головой, руками, ногами и всем корпусом. У правшей миоклонические подергивания возникают в правой руке вдвое реже, чем в левой, а у левшей наоборот — дергается в основном правая рука. Существует предположение, что подергивания связаны с активностью вестибулярного аппарата. Но зачем этому аппарату оживляться по ночам и для чего это нужно человеку и животным — понаблюдайте, как у кошки во сне дергаются усы или как сама себе подмигивает лошадь! — для чего все это, тоже пока неизвестно. Но удивительнее всего это jactatis capitis nocturna — ночные броски головой. Шотландский психиатр Освальд, автор популярной книги о сне, рассказывает о двух юношах, которых ему довелось наблюдать в своей клинике. Днем они были во всех отношениях нормальны, но что они вытворяли по ночам! «Ничего более фантастического, чем то, что мне демонстрировал этот огромный двадцатилетний парень, я не видел, — пишет Освальд. — Вскоре после того как он засыпал, он внезапно начинал бросать свою голову и тело то вправо, то влево, а его „коллега“, тринадцатилетний подросток, так же внезапно, ни с того ни с сего, переворачивался на руки и на колени и ритмично ударял головой в подушку». Покачавшись таким образом раз по сто, оба укладывались на бок и продолжали спокойно спать. Каждый из них совершал в минуту около семидесяти бросков. Освальд пытался повторить это «упражнение» в таком же темпе, но у него ничего не получилось. Для этого, говорит он, нужна длительная тренировка. Сначала Освальд подумал, что молодые люди укачивают себя, потому что часто просыпаются, но, как показала электроэнцефалограмма, спали они беспробудным сном, как и полагается спать в юности. Иногда броски начинались во время быстрых движений глаз, иногда в дельта-сне, когда глаза были неподвижны, но всегда это был глубокий сон. Скорее всего, говорит Освальд, ночные броски двух парней были следствием каких-то психологических конфликтов, тянущихся из полузабытого детства. Ведь во всех случаях жизни укачивание или раскачивание — это успокоительное средство. В нем ищут прибежища не только от бессонницы, но и от страха, одиночества и печали. Возможно, догадка Освальда и верна. Д. Гранин и А. Адамович в «Главах из блокадной книги» рассказывают, как маленькие ленинградцы, умиравшие в блокаду от голода и истощения, целыми днями сидели на кровати и тихо раскачивались взад и вперед. К концу ночи всякий сон становится беспокойным и неглубоким: увеличивается доля быстрого сна, сопровождаемая сновидениями; возрастает поток импульсов из переполненного мочевого пузыря и пустого желудка, от мышц, уставших пребывать в относительной неподвижности. Ко всему этому прибавляется свет и шум проснувшегося дня. Мы уже проснулись, но на нашей электроэнцефалограмме еще нет ритмов, свойственных полноценному бодрствованию. В эти мгновения мы думаем, говорим и действуем спросонок. Но вот и ритмы появились, а работоспособность еще дремлет. Вот почему нам всегда неохота вставать, и многие любят поваляться в постели до последней минуты. Недаром американский психолог и философ Уильям Джемс, который был рабом этой привычки, посвятил ее анализу одну из самых вдохновенных страниц своей «Психологии» и, главное, поместил этот анализ не в раздел «Привычка», а в раздел «Воля». «Воля, — говорит он, — обнаруживается тогда, когда мы делаем не то, что нам хочется». Из-за того, что работоспособность и бодрость еще дремлют, мы, хотя и проснулись окончательно, некоторое время смотрим на жизнь довольно мрачно и скорее склонны утверждать, что не выспались, чем выразить удовлетворение сном. Часто ли вы встречали человека, который говорил бы: «Ох, и выспался я сегодня на славу»? Почти каждый уверяет, что спалось ему сегодня так себе. О люди! Почему они не спрашивают себя, как им бодрствовалось! 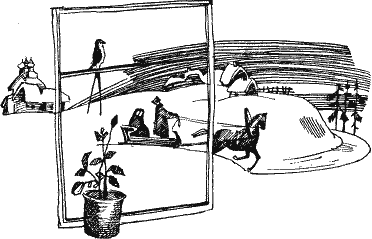 ТОЩИЙ КОШЕЛЕК Пациенты Освальда о своей гимнастике и понятия не имели, их сознание теплилось ровно настолько, чтобы запоминать отрывки сновидений. Но зачем сознанию так необходимо отключаться от внешнего мира? Зачем мы ложимся с наступлением ночи в постель, нам более или менее понятно: суточный ритм, рептилии и так далее. Правда, как выясняется, рептилии застывали и от яркого света, так что дело несколько осложняется. Ну, да ладно: между нами и рептилиями все-таки дистанция огромного размера. Но разве нельзя, если зов предков столь неумолим, просто лечь в постель и предаться размышлениям или грезам. Спать-то зачем? Зачем терять сознание? Во все века человечество полагало, что сон это отдых, и мы уже не один раз говорили об этом, цитируя и Шекспира, и Томаса Манна. Физиологи соглашаются с этим, но лишь отчасти. Наши гипногенные зоны, читаем мы в их трудах, оживают не только от приказа биологических часов, ориентированных на суточный ритм, но и от субъективного ощущения, что мы утомлены. Что же скрывается за этим субъективным ощущением? Что у нас может устать? Нервные клетки, говорят физиологи, уставать не могут. Сравните нейрон с сердцем. Цикл возбуждения и сокращения сердца длится десятые доли секунды, отдыхает оно столько же, и этого ему вполне достаточно. Цикл возбуждения нейрона намного короче — тысячные доли секунды. Но нет никаких оснований считать, что для отдыха ему не хватает таких же микроинтервалов между работой. Да нейроны и не думают отдыхать. Другое дело — мышцы. Мышечное утомление, накопившееся за день (даже у лежачих больных) заставляет нас принять горизонтальное положение и расслабиться. Как только мышцы расслабляются, угасает поток импульсов, посылавшихся в мозг сокращенными мышечными волокнами, и благодаря этому снижается уровень бодрствования. А ограничиться одним лежанием нельзя: как бы мы ни старались расслабиться, многие мышцы будут все равно скованы напряжением. Наше сознание должно совсем отвернуться от мышц, предоставить тело самому себе. Прекрасно. Но неужели же мы спим и видим сны ради одних мышц? Неужели ради одних мышц медленный сон сменяется быстрым? Какая связь между мышечным утомлением и быстрыми движениями глаз? Да уж явно никакой. Мышцы мышцами, но тут, наверное, кроется что-то еще. Ни о каком утомлении и говорить нечего, не в утомлении дело, настаивают сторонники еще одной теории сна — информационной. Мы засыпаем, чтобы усвоить и переварить всю ту информацию, которая накапливается за день в нашей непосредственной памяти. Мозг наш перегружен, ему надо отсортировать воспринятое — полезное запомнить, бесполезное отсеять. Для того и сон. Информационная теория возникла в пятидесятые годы, в пору расцвета кибернетики и общей убежденности в том, что все на свете достойно измерения и в измерении нуждается. Измеряли тогда все подряд, и психологи, подобно пифагорейцам, толковали об одних числах. У этого увлечения были свои причины. На сцене появилась теория информации, в которой многие увидели универсальный метод анализа человеческой деятельности. Вычислительные машины работали все быстрее, объем их памяти возрастал не по дням, а по часам, и каждый, кому приходило в голову сопоставить машину и мозг, не удерживался от искушения и выводил на бумаге какую-нибудь грандиозную цифру, означавшую емкость человеческой памяти. Количество информации, которое человек якобы способен переварить за секунду, перемножалось на количество секунд в человеческой жизни, на количество нейронов, на количество молекул в нейронах и так далее. Через несколько лет ученые начали догадываться, что машина устроена иначе, чем мозг, и работает на других принципах и что то, чем занят мозг, не всегда следует называть переработкой информации. Стало ясно, что доказать, будто все нейроны и их связи, не говоря уже о молекулах, участвуют в этой переработке и, наконец, что вся эта переработка — привилегия одних нейронов и молекул, невозможно. Все цифры рассеялись как сон, как утренний туман, словно их и не было, все, кроме «магической семерки», открытой американским психологом Джорджем Миллером и характеризующей объем непосредственной, или кратковременной, памяти. Ограниченность этой памяти вообще-то была известна психологам давно, но специально ее никто не измерял. У Миллера же была вполне практическая задача: выяснить «пропускную способность» оператора автоматизированной системы — человека, действительно занятого переработкой информации. И вот он обнаружил, что оператор способен с одного раза удержать в памяти в среднем девять двоичных чисел (7 + 2), восемь десятичных чисел (7 + 1), семь букв алфавита и пять односложных слов (7 — 2). Все вертелось вокруг семерки. Но при этом каждая группа обладала неодинаковой информативной ценностью: семь букв несли в три с лишним раза больше информации, чем восемь десятичных чисел, а пять слов — почти в шесть раз больше. Из этого Миллер заключил, что объем непосредственной памяти ограничен не количеством самой информации, а количеством ее «кусков». В кошельке этой памяти, говорил он, помещается семь монет. Доллары это или центы, ей безразлично. Она интересуется не смыслом информации, а ее чисто внешними характеристиками — цветом, формой, объемом. Смыслом интересуется долговременная память, которой надлежит оценить то, что преподнесет ей память кратковременная. Семерку Миллер назвал магическим числом. Он утверждал, что она следует за ним по пятам, что он каждый день сталкивается с ней. И это не было преувеличением: мы тоже сталкиваемся с семеркой ежедневно. «Семь раз примерь, один отрежь», — говорим мы. — «Семь бед — один ответ», «Один с сошкой, а семеро с ложкой», «Семеро одного не ждут», «Семи пядей во лбу», «А ты седьмой, у ворот постой», «Семь пятниц на неделе», «Семь раз поели, а за столом не сидели», «Служил семь лет, выслужил семь реп, да и тех нет», «За семь верст киселя хлебать», «Седьмая вода на киселе». О семи днях творения рассказывает нам книга Бытия и о том, как семь коров тучных и семь тощих увидел во сне фараон. Семь городов спорили о Гомере, семь мудрецов было у древних греков и семь чудес света. Чем дальше в глубь веков, тем больше семерок. Сложный узор из ямок и спиралей на знаменитой бляхе со стоянки Мальта построен на ритмическом повторении семерки. На плоскостях доисторического дротика из Западной Грузии вырезано по семи стреловидных знаков. Психологи и историки культуры считают, что в процессе эволюции, наряду со многими психофизическими константами, вроде скорости распространения нервного импульса, у человека выработалась и такая постоянная величина, как объем непосредственной памяти. Тысячелетие за тысячелетием эта константа оказывала свое влияние на выработку житейского уклада, культурных традиций, религиозных и эстетических воззрений. Человеку удобнее всего было думать об однородных вещах, если их число не превышало семи. Целесообразность этого ограничения несомненна. Если бы перед нашим мысленным взором толпилось бесчисленное количество образов, мы бы просто не могли думать. Мы были бы не в состоянии сравнивать новую информацию со старой, оценивать ее и превращать медные монеты в серебряные, то есть придавать информации форму, удобную для хранения в долговременной памяти. А эта память, в отличие от кратковременной, способна вместить любое количество информации и хранить ее всю жизнь.  ПУШКА СТЕФАНА БАТОРИЯ Лет двадцать пять назад канадский нейрохирург Уилдер Пенфилд сделал замечательное открытие. Больные Пенфилда страдали очаговой эпилепсией, которая вызывается патологическими процессами в височных долях коры. Пенфилд удалял под местным наркозом пораженный участок. По соседству с этим участком находятся зоны, управляющие речью. Стараясь установить, где проходит граница этих зон, он прикладывал к разным участкам коры электрод со слабым током. В тот миг, когда он подвел электрод к одному участку височной доли доминантного, то есть ведущего, полушария (у левшей правого, а у правшей левого), больная, находившаяся в сознании и ничего не чувствовавшая, вскрикнула и улыбнулась. Она внезапно увидела себя маленькой, среди своих кукол. Другая увидела себя с новорожденным ребенком на руках; ребенок этот уже давно стал взрослым. Третья очутилась в своем родном Утрехте, в соборе, и услышала рождественский хорал. Когда электрод нейрохирурга вызывает к жизни запись прошлого, писал Пенфилд, это прошлое развертывается последовательно, мгновение за мгновением, как в кинофильме. Время в этом фильме всегда идет вперед с неизменной скоростью. Но в отличие от настоящих фильмов, оно не поворачивает вспять и не перескакивает на другие периоды. Если убрать электрод, фильм оборвется, но, поднеся электрод к той же точке, его можно продолжить. Если же электрод попадет в другую точку, на экране сознания могут вспыхнуть сцены другого периода жизни. Известие об открытии Пенфилда облетело весь свет. Врачи вспомнили удивительные случаи гипермнезии, или сверхпамятливости, проявлявшейся при чрезвычайных обстоятельствах. В горячечном бреду люди вдруг начинали говорить на языке, которым не пользовались полвека или на котором говорили когда-то даже не они сами, а их близкие. Спасшиеся при кораблекрушениях рассказывали, что, когда они погружались в воду, перед ними проносилась вся их жизнь и с такими мельчайшими подробностями, о которых они никогда прежде не вспоминали. Такие же подробности всплывают в памяти под гипнозом, если человека просят рассказать о каком-нибудь периоде его жизни. В фильмах, которые видели пациенты Пенфилда, никогда не встречались образы, связанные с выполнением серьезной работы, с принятием решений, с сильными эмоциями — со всем тем, к чему сознание могло хоть раз вернуться и что могло исказиться при воспоминании. Фильмы содержали лишь фон, который окружает человека в обыденной жизни, не вызывая заметных душевных реакций. Это та часть жизни, которая проходит мимо сознания и благодаря забвению сохраняется во всей своей неприкосновенности. Материал гипермнезии того же рода. Язык, на котором мы говорим в детстве, мы не учим: это стихия, в которой мы живем, не думая о ней. Картины, проносившиеся перед взором утопающих, были все тем же забытым и никогда не вспоминавшимся фоном. Наша память хранит во много раз больше того, что мы воспроизводим в обычной жизни. Может быть, она вообще хранит все, что попадалось нам на глаза и задерживалось в поле зрения хоть на миг. Когда мы останавливаем свой взгляд на предмете, он, как говорят психологи, становится для нас фигурой, а все остальное фоном. Но чтобы выделить фигуру из фона, нужно мгновенно оценить сам фон. Бессознательная память, над которой время не властно, храня в себе бесчисленные образы среды, употребляет их как эталоны при встрече с новыми объектами и этим оказывает неоценимую услугу сознанию. Объем долговременной памяти измерениям не поддается, но ее «пропускную способность» измерить можно. В многочисленных экспериментах было установлено, что из двух одинаковых по величине «кусков» лучше запоминается тот, в котором содержится меньше информации. Долговременная память весьма чувствительна к перегрузкам. Легче всего она усваивает то, что связано с прошлым опытом. Она не любит новизны. Если событие совершенно выпадает из общего порядка вещей и не имеет ни причин, ни следствий, говорит Честертон в одном из своих рассказов, ничто в дальнейшем не способно воскресить его в памяти. У людей открыты глаза лишь на те стороны явлений, которые они уже научились различать, которые уже пустили корни в их душе. С другой стороны, замечает Уильям Джемс, ничего не может быть приятнее умения ассимилировать новое со старым, разоблачать загадочность необычного и связывать его с обычным. Победоносное ассимилирование нового со старым — характерная черта всякого интеллектуального удовольствия. Жажда такого ассимилирования и составляет научную любознательность. Жажда ассимилирования, но — не новизны. Недаром многие люди получают наслаждение от музыки лишь тогда, когда им удается предвосхитить развитие музыкальной темы. В простейших случаях, как это хорошо показывает Эдгар По в своей статье «Философия творчества», этой задаче служат припевы у песенок. «Удовольствие, — говорит он, — возникает лишь из ощущения тождества-повторения. Абсолютная новизна тягостна для памяти, постижение нового лишь тогда доставляет удовольствие и приносит хорошие плоды, когда его можно хотя бы отчасти угадать». Для усвоения новизны необходима известная игра ума, нужно преодолеть определенные препятствия, затратить энергию, а эти затраты придется восполнять. Рассуждая так, мы приходим к мысли о неизбежности периодического отдыха для ума, причем такого отдыха, который не нарушался бы никаким притоком новостей. Ум, восприятие, память — вот что должно отдыхать. Не клетки, не ткани, не органы, не анатомические субстраты функций, а сами функции нуждаются в отдыхе. Об этом и говорила информационная теория сна, особенно в первоначальном своем варианте. Наш ум не успевает переваривать все впечатления, попадающие в кошелек непосредственной памяти. Впечатления накапливаются, и вот уже кошелек трещит по Швам. Медные монеты нам удалось переплавить в серебряные, но кошелек не вмещает и их. Мы закрываем глаза и отворачиваем мысленный взор от всего, что может кошелек переполнить. Кроме того, кое-что мы не успели переплавить, а кое-что переплавляли напрасно. Одна монетка оказалась фальшивой… Все, что заслуживает длительного хранения, надо перевести в долговременную память, а что не заслуживает — за борт! Словом, мы должны тщательно оценить все, что события дня набросали в наш кошелек. Так как никто этим сознательно не занимается, то, очевидно, это входит в обязанности нашего бессознательного мышления. А раз оно бессознательное, то столь же очевидно, что действовать ему будет удобнее, когда сознательное ему не мешает, то есть спит. Сторонники информационной теории сна опирались на данные нейрофизиологии, согласно которым, чтобы информация перешла из кратковременной памяти в долговременную, она должна быть переведена с языка электрических импульсов на язык молекул. Электрические импульсы циркулируют по нейронным кругам до тех пор, пока информация не перейдет на белковые молекулы и не запишется в них кодом, основанным на комбинациях нуклеотидов. Насчет кода теперь есть и другие гипотезы: одни считают, что память представляет собой набор голограмм, другие, что информация хранится в ритмических рисунках биотоков мозга. Но все это не меняет дела. В любом случае мозгу необходимо отключиться от внешнего мира (что и составляет сущность сна) и перейти на иной режим. Просыпаемся же мы тогда, когда переработка информации закончена: информация записана, память готова к новым впечатлениям. Спать больше незачем. Это объяснение назначения сна кажется простым и убедительным: в самом деле, чтобы переварить пищу, нужно хотя бы на время перестать есть. Но какую информационную пищу принимает тот же кот, спящий каждые сутки по восемнадцать часов? Может быть, он генерирует информацию сам? Какую же? Мы не находим ее отражения ни в его поведении, ни на его электроэнцефалограмме. А как переваривает информацию акула? Связано ли с этим процессом состояние каталепсии, к которому так неравнодушны лягушки, черепахи и совы? Оставим животных; возможно, у них есть свои причины спать. Поговорим о себе. Мы с вами путешествуем, мы попадаем в новый город, целый день мы осматриваем его. С утра мы успели заглянуть в два музея; в первом была выставка картин местных художников, во втором — стоянка первобытного человека, пушка, отбитая у Стефана Батория, и чучело рыси, некогда обитавшей в здешних лесах. Потом мы излазили Старый город с его узкими улочками, ратушей, домом какого-то братства рыжеголовых и неприступными стенами со следами смолы, вылитой на голову все того же неугомонного Стефана Батория. Потом был ужин в лучшем погребке города, среди пыльных шкур, табачного дыма и вонючих бочек из-под пива. Впечатлений — на год! Сколько же мы будем спать, чтобы все это запомнить? Да сколько обычно — восемь часов. Может, даже семь: утром нас повезут на какое-то кладбище, которым ужасно гордятся местные жители. Проходит месяц. Мы возвращаемся с работы с пустой головой: в этот день не случилось ровно ничего. Кто-то приходит на чашку чая, мы болтаем о том о сем, посматривая на телевизор, где показывают кинофильм «Веселые ребята». Совершенно бессодержательный день! Сколько же мы спим после него? Да все те же восемь часов. Даже больше! Нынче утром нам не к девяти, а к десяти, и мы с удовольствием дремлем еще часок. Над какой информацией работали механизмы нашей памяти в эту ночь? Чего ради мы спали так долго? Неизвестно. То ли дело поэты или ученые: говорят, они сочиняют во сне и совершают открытия. СОНАТА ДЬЯВОЛА «Вот четверостишие, которое папа сочинил на днях, — пишет зимой 1871 года дочь Тютчева Дарья Федоровна своей сестре Екатерине, — он пошел спать и, проснувшись, услышал, как я рассказывала что-то маменьке». Четверостишие было следующее: Впросонках слышу я и не могу Скольжение санок за окном, женский говор рядом или в соседней комнате, неглубокий сон, и вот уже звучат слова в пятистопном ямбе, и как бы сам собой рождается столь благоприятствующий поэзии оксюморон — сочетание противоположных понятий: свист полозьев и щебетание ласточки, зима и весна. Пушкину, по его собственному признанию, приснились две строчки из стихотворения «Лицинию» («Пускай Глицерия, красавица младая, равно всем общая, как чаша круговая…»). Лафонтен во сне сочинил басню «Два голубя», Державин — последнюю строфу оды «Бог», Вольтер — первый вариант «Генриады» — целую поэму! Во сне сочиняют не одни поэты. Бетховен, заснув во время езды в карете, сочинил пьесу, но, проснувшись, не мог восстановить ее в памяти. На следующий день, оказавшись в той же карете, он вспомнил ее и записал. Тартини во сне создал «Сонату дьявола». Он назвал ее так, ибо ему приснилось, что долго ускользавшую от него мелодию принес ему дьявол, который взамен потребовал его душу. «Увертюра к „Золоту Рейна“ родилась в моем уме во время поездки в сентябре 1853 года в Италию, в Специю, — рассказывает Вагнер в книге Джордже Бэлана „Я, Рихард Вагнер…“ — Однажды после обеда, утомленный, я прилег, чтобы соснуть, но вместо благотворного сна меня охватила тревожная дремота, сопровождаемая ощущением погруженности в воду под звуки протяжных ми-бемольных арпеджио. Поняв, что наступил момент создания музыки к „Золоту Рейна“, я тотчас вернулся домой, в Цюрих. Лихорадочная работа над прологом тетралогии завершилась в конце мая 1854 года…» Снятся «творческие» сны и ученым. Менделееву, как мы знаем, приснилась таблица, где химические элементы были расположены не в порядке убывания атомного веса, как он поставил их сначала, а в порядке возрастания. Во всех книгах по психологии творчества можно встретить рассказ о химике Августе Кекуле, которому приснилась долгожданная формула бензола. Дело происходило в Генте. Кекуле писал учебник по химии. Как-то вечером он повернулся к камину и задремал. Образы атомов заплясали в его голове. «Мой умственный взор, искушенный в видениях подобного рода, — рассказывал он, — различал теперь более крупные образования… Длинные цепочки, все в движении, часто сближаются друг с другом, извиваясь и вертясь, как змеи!.. Одна из змей ухватила свой собственный хвост, и фигура эта насмешливо закружилась перед моими глазами. Пробужденный словно вспышкой молнии, я провел остаток ночи, детально разрабатывая следствия новой гипотезы». Но вернемся к поэтам. У Сэмюэля Кольриджа есть маленькая поэма «Кубла Хан, или Видение во сне» (с подзаголовком «Фрагмент»). Поэме предпослан рассказ о том, как она сочинялась. «Летом 1797 года, — пишет Кольридж, — автор, в то время больной, уединился в одиноком крестьянском доме между Порлоком и Линтоном, на эксмурских границах Сомерсета и Девоншира. Вследствие легкого недомогания ему прописали болеутоляющее средство, от воздействия которого он уснул в кресле как раз в тот момент, когда читал следующую фразу (или слова того же содержания) в „Путешествии Пэрчаса“: „Здесь Кубла Хан повелел выстроить дворец и насадить при нем величественный сад; и десять миль плодородной земли были обнесены стеною“. Около трех часов автор оставался погруженным в глубокий сон…» Дальше Кольридж сообщает, что за эти три часа он сочинил двести или триста строк. Образы «вставали перед ним во всей своей вещественности, и параллельно, без всяких ощутимых или сознательных усилий, слагались соответствующие выражения». Когда он проснулся, ему показалось, что он помнит все, и, взяв перо, чернила и бумагу, он поспешно записал строки, которые приводятся ниже. Он намеревался продолжать, но тут его позвал некий человек, прибывший по делу из Порлока, и продержал его больше часа. По возвращении к себе в комнату автор, к немалому своему огорчению, обнаружил, что хотя и хранит некоторые неясные и тусклые воспоминания об общем характере видения, но, за исключением нескольких разрозненных строк и образов, все остальное исчезло, подобно отражению в ручье, куда бросили камень. «…Подожди, несчастный юноша со взором робким, — цитирует он затем собственное стихотворение „Пейзаж, или Решение влюбленного“, — разгладится поток, виденья скоро вернутся! Остается он следить, и скоро в трепете клочки видений соединяются, и снова пруд стал зеркалом». Но клочки, увы, не соединились. Много раз Кольридж пытался припомнить свои видения и завершить то, что первоначально было даровано ему целиком, но все попытки были тщетны. Он отдает на суд читателя лишь начало поэмы — 68 строк, в которых рассказывается, как Кубла Хан, или Хубилай, знаменитый потомок Чингисхана и основатель монгольской династии в Китае, построил себе дворец в стране Ксанаду: «In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure-dome decree: В стране Ксанад благословенной Но почему «В стране Ксанад», спросит читатель, когда у Кольриджа сказано «In Xanadu» (по-английски это звучит как «Ин Занаду»)? Оттуда же, ответим мы, откуда и само «Xanadu» — от ритмической необходимости. В книге, которую поэт читал перед сном, было не «Ксападу» (три слога), а «Ксанду», что мешало образованию стиха. Из тех же соображений Бальмонт, переводя Кольриджа, переделал Занаду в Ксанад. Как сказал один критик, «из первой уже строки получился стих, состоящий почти из одних редкостных собственных имен, почти бессмысленный, но благозвучный и полный предчувствуемого смысла». Но не будем задерживать свое внимание на литературной стороне дела: поэма, безусловно, прекрасна. Но действительно ли она приснилась Кольриджу? Две строчки еще куда ни шло, ну четыре, но шестьдесят восемь! Мало их сочинить, их еще надо запомнить сходу! Даже если магия семерки не распространяется на стихи, все равно случай невероятный. НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ ОПИЯ «Кубла Хан» напечатан был в 1816 году; тогда же написано к нему и предисловие. Сама же поэма создана, по словам Кольриджа, летом 1797 года, а по утверждениям некоторых критиков — весной 1798 года. А как обстоит дело с «первоисточником»? Да, отмечают биографы поэта, вышло в 1617 году в Лондоне «Путешествие Пэрчаса», но Кольридж цитирует из него отрывок неверно. Пэрчас написал следующее: «В Ксанду Хан Хубилай выстроил величественный дворец, огородив равнину в шестнадцать миль стеною…» Слова эти, очевидно, слились в сознании Кольриджа с отрывком из другой книги Пэрчаса — «Путешественники», где тот описал замок основателя мусульманского ордена ассасинов Гассана Ибн-Сабба, названного им Аладдином. В живописном оазисе Аладдин воздвиг несколько роскошных дворцов, где по трубам струилось вино, молоко, мед и вода, а прекрасные девы музыкой и песнями услаждали гостей. Эти мотивы есть и в «Кубла Хане». Какую же книгу держал в руках поэт, засыпая? Сразу обе? А откуда взялся Альф, «поток священный»? Оказывается, из третьей книги — из «Путешествия к истокам Нила» Джеймса Бруса, где написано, что, по преданию, Нил был одной из четырех рек, вытекавших из Эдема. Воды Нила скрывались под землей и вновь появлялись в Абиссинии. Точно так же в греческих мифах (еще один «источник»!) вела себя и река Алфей, которая течет из Аркадии в Элладу. Нил и Алфей слились у Кольриджа в Альф. Когда «Кубла Хан» был напечатан, он не встретил сочувствия. Только Байрон оценил поэму по достоинству. Критики же видели в ней нагромождение беспорядочных образов, привидевшихся наркоману. Теперь они впадают в другую крайность и считают все предисловие мистификацией. В самом деле, говорят они, мог ли Кольридж взять из дома на столь далекую прогулку тяжелейший том Пэрчаса? Какие дела могли быть у поэта, вообще не имевшего никаких дел и искавшего уединения, с незнакомцем из Порлока и как тот ухитрился разыскать его? Нам кажется, что все эти сомнения неосновательны. Кольридж не говорит ни слова о прогулке. Он мог жить некоторое время в крестьянской хижине, с ним там могло быть сколько угодно книг, кто угодно мог разыскать его — мало ли кому он мог понадобиться. В самой ранней заметке на рукописи поэмы Кольридж написал, что она «была создана как бы в полузабытье» после приема двух-трех капель опия. Там нет упоминания ни о незнакомце из Порлока, ни о глубоком сне, в который он якобы погрузился. Заменив «полузабытье» «глубоким сном» в предисловии, Кольридж изменил и самую суть случившегося. Зачем он это сделал? Биографы считают, что в 1816 году у него на то были причины. Подавленный творческими неудачами, он, возможно, не хотел, чтобы читатели подумали, будто он мог сознательно, а не в «глубоком сне» сравнить себя с поэтом-пророком, «вскормленным медом и млеком рая», как сказано в последних строках «Кубла Хана». С другой стороны, мог ли Кольридж в течение восемнадцати лет хранить в памяти все детали того дня, даже если это был необычный день? Тот же Кекуле через двадцать пять лет после своего открытия рассказывал две совершенно противоположные версии об этом событии. По одной, формула бензола приснилась ему в виде змеи и дело было в Генте, по другой, он «узнал» ее в сцепившихся обезьянах, когда клетка с ними встретилась ему на одной из улиц Лондона. Обезьяны, вспоминает он, ловили друг друга, то схватываясь между собою, то опять расцепляясь, и один раз схватились так, что образовали кольцо, подобное бензольному. Кекуле искал свою формулу десять лет. Десять лет упорных размышлений, постоянное возвращение к одной и той же задаче. Странно не то, что формула ему приснилась, странно было бы, если бы она не начала ему сниться, не открылась бы ему во сне! Но с другой стороны, как можно задним числом выдумать обезьян? Хотя кто знает, на что способно воображение ученого. Для нас с вами формула — бесплотный знак, а для истинного ученого — живая фигура, вызывающая целую гамму эмоций. Домашние подслушали однажды, как Менделеев разговаривал с формулой: «У, рогатая, доберусь я до тебя!» Ничего удивительного не было бы и в том, если бы Кекуле, «добравшись» до своей формулы и как-нибудь, в раздумье, машинально, приделывая к ее палочкам какие-нибудь хвостики, усмотрел бы в ней сходство со сцепившимися обезьянами, которых действительно видел где-то давным-давно. Но нас сейчас интересует одно: мог ли Кекуле открыть свою формулу во сне, могла ли она ему присниться? Пожалуй, все-таки могла, но, конечно, не в виде всем известного шестиугольника, да еще со знаком СН по углам, а в полусимволической форме поймавшей свой хвост змеи: мышление спящего, как мы еще убедимся, отличается от мышления бодрствующего человека как раз тем, что тяготеет к символике. Могла, конечно, ибо еще Лукреций сказал: Если же кто-нибудь занят каким-нибудь делом Тем не менее мы чувствуем серьезную разницу между шестиугольником, в каком бы обличье он ни предстал перед взором спящего, и поэмой в 68 тщательно отделанных строк, да к тому же производящей впечатление законченного целого, а не фрагмента. Поток образов и слов, но не отделанных, — вот с чем еще мы можем согласиться. Вагнеру снится не увертюра, а ощущение погруженности в воду под звуки протяжных арпеджио, Тютчеву снятся звуки — скрип полозьев и щебетанье ласточки, стихи же об этом он сочиняет потом. Нет, шесть строк, восемь, двенадцать, но не шестьдесят восемь! То был не сон, а полусон-полуявь, греза, транс, но не сон. Многие люди, засыпая, бормочут бессмысленные фразы, и часто эти фразы состоят из рифмующихся кусочков. В английском еженедельнике «Нью стейтсмен» была напечатана как-то коллекция этих фраз. Самой забавной была признана та, которую произнес, засыпая, некий мистер Синглтон из Лондона: «Only God and Henry Ford have no ambilical cord» (только у бога и Генри Форда нет пуповины). Наши критики, говорил французский поэт Поль Валери, постоянно смешивают понятия сна и поэзии. Но ни сон, ни греза не являются непременно поэтическими. Во сне «наше сознание может быть наводнено, до пределов насыщено порождениями некоего бытия, чьи предметы и сущности кажутся, правда, теми же, что и при бодрствовании, хотя их значимости, их отношения, формы их превращений и перестановок в корне меняются и с несомненностью демонстрируют нам чаще всего в символической и аллегорической форме мгновенные колебания нашей общей чувствительности, не контролируемой чувствительностью специальных органов чувств. Так же приблизительно складывается, развивается и, наконец, рассеивается в нас и состояние поэтическое». Отсюда явствует, заключает Валери, что поэтическое состояние есть состояние абсолютно непредсказуемое, неустойчивое, стихийное, эфемерное, что мы утрачиваем его, как и обретаем, чисто случайно. «Этого состояния еще недостаточно, чтобы сделаться поэтом, так же как недостаточно увидеть во сне драгоценность, чтобы найти ее при пробуждении сверкающей на полу…» Мы не сомневаемся в том, что под влиянием опия и вдохновения Кольридж испытал «поэтическое состояние». Возможно, ему приходили в голову целые строфы, перекликавшиеся с образами, которые были вызваны чтением одной книги Пэрчаса и воспоминаниями о другой. Все было; может быть, и двести строк были, хотя и нуждались потом в тщательной обработке и отделке, совершаемой только под контролем бодрствующего сознания. Но то был не сон в обычном значении этого слова — не медленный сон в любой его стадии и не сопровождаемый сновидениями быстрый, а, вероятнее всего, одно из состояний бодрствования, которое мы испытываем редко, ибо редко случается нам принимать опий и еще реже оказываемся мы такими поэтами, как Кольридж, но которое, тем не менее, существует в природе и называется вдохновением. ЦИРКОВАЯ НАЕЗДНИЦА Вдохновение часто связывают с деятельностью бессознательного, когда люди творят как бы по наитию, сами не зная, каким образом и откуда рождаются у них прекрасные строфы, свежие и глубокие идеи, решения долго не дававшихся им задач. Известно оно было еще во времена Сократа, у которого, по его признанию, был свой личный демон, нашептывавший ему некоторые мысли. Но демон Сократа был натурой несозидательной: он нашептывал ему только то, чего делать не следует. В решениях конструктивных Сократ полагался лишь на бодрствующее сознание. Зато у итальянского математика Кардано демон был существом творческим: ему он был обязан открытием мнимых чисел. Философ Кант воздавал хвалу бессознательному, считая его «акушеркой мыслей», а физиолог А. А. Ухтомский говорил, что научные догадки и намечающиеся мысли, приходящие в голову во время сознательных поисков, продолжают обогащаться, преобразовываться и расти в бессознательном, чтобы, возвратившись потом в сознание, оказаться более содержательными, созревшими и обоснованными. По мнению физиолога П. В. Симонова, неосознаваемость определенных этапов творческой деятельности возникла в процессе эволюции как необходимость противостоять консерватизму сознания. Сознание — это знание, которое можно передать другим, то есть частица коллективного опыта человечества. Этот сконцентрированный в сознании опыт должен быть защищен от случайного, сомнительного, не подтвержденного практикой. Знания должны лежать на своих полочках и не вступать друг с дружкой в причудливые комбинации, подобные сновидениям. За этим, полагает Симонов, и следит сознание, выполняющее по отношению к опыту такую же роль, какую выполняют по отношению к генетическому фонду особые механизмы, защищающие его от вредных воздействий среды. Однако строгий порядок, царящий в сознании, мешает формированию новых гипотез. В первый момент сознание отказывается примириться с тем, что противоречит разложенному по полочкам опыту. Вот почему наша сознательная память так не любит абсолютную, не связанную с прошлым опытом новизну. И вот почему сам процесс формирования гипотез освобожден от контроля сознания, готового отвергать гипотезу в самом ее зародыше. Сознанию предоставлена другая роль — окончательный отбор тех гипотез, которые оказываются полезными для достижения поставленной цели. Если Симонов прав, то бессознательное вместе с новой идеей должно, очевидно, выложить перед сознанием доказательства ее истинности и как бы объяснить сознанию, чем оно руководствовалось в своих оценках. Кое-кому удалось подсмотреть, как работает бессознательное. «Находясь в нормальном состоянии духа, — писал Чайковский к Н. фон Мекк, — я сочиняю всегда, каждую минуту дня и при всякой обстановке. Иногда я с любопытством наблюдаю за той непрерывной работой, которая сама собой, независимо от предмета разговора, который я веду, от людей, с которыми нахожусь, происходит в той области головы моей, которая отдана музыке… Иногда это бывает какая-то подготовительная работа… а в другой раз является совершенно новая, самостоятельная музыкальная мысль, и стараешься удержать ее в памяти». За работой бессознательного наблюдал и знаменитый математик Анри Пуанкаре. В течение двух недель он безуспешно бился над проблемой так называемых автоморфных функций. Как-то вечером он выпил кофе и не мог заснуть. «Идеи теснились в моей голове, — рассказывал он, — я чувствовал, как они сталкиваются, и вот две из них соединились, образовав устройчивую комбинацию. К утру я установил существование одного класса этих функций…» Но до окончательного решения было еще очень далеко, и, утомленный бесплодными поисками, Пуанкаре решил заняться на время другой темой. Однажды, во время прогулки, его вдруг осенило, что тема, которую он считал «другой», косвенно связана с первоначальной. Впоследствии он понял, что это его бессознательное, не перестававшее размышлять над занимавшей его проблемой, пустилось на поиски подсказки, которая часто кроется в сходных задачах. Зрелище соединяющихся в комбинацию идей поразило Пуанкаре более всего: «Будто присутствуешь при своей собственной бессознательной работе, которая становится частью сверхвозбужденного сознания, и даже различаешь, хотя и смутно, два метода работы этих двух „я“. Обычно, говорит Пуанкаре, в поле сознания ученого попадают лишь полезные комбинации или такие, которые обладают всеми признаками полезных. Это похоже на экзамен второго тура, куда попадают лишь те, кто прошел первый тур. На первом же туре кандидатов отбирает бессознательное. Оно умеет судить здраво, у него безупречное чувство меры и безошибочная интуиция. Оно способно и создавать материал для выбора — сотни математических комбинаций. Границы сознания узки: о скольких вещах мы можем думать одновременно? У бессознательного границ не видно: оно вмещает весь наш опыт, все ощущения, все способности. Бессознательное похоже на зал, где к стенам прикреплены крючочки — элементы будущих комбинаций. Когда у сознания появляется цель, крючочки отделяются от стен и пускаются в танец, сцепляясь друг с другом. Так представляет себе бессознательное математик. А вот физику, например академику А. Б. Мигдалу, оно кажется собранием знакомых и полузнакомых людей, символизирующих различные понятия. Но разница эта несущественна. В физике, говорит он, то же, что и в математике: сознательные попытки решить проблему дают задание подсознанию — искать решение в определенном круге понятий. Из запаса знаний и опыта подсознание отбирает те сочетания понятий, которые могут оказаться полезными, и представляет их на суд сознания. Как-то раз решение явилось Мигдалу во сне. Мигдал решал задачу о вылете электронов из атома при ядерных столкновениях. В общем виде все было ясно: столкнувшись с нуклоном, ядро быстро набирает скорость, а электроны, обладающие меньшими скоростями, не успевают улететь вместе с ним и остаются там, где произошло столкновение. Но формула, показывающая вероятность вылета любого из электронов, не давалась ученому. «Подсознание, — рассказывает он, — выдало идею решения иносказательно, во сне: по цирковой арене скачет наездница; внезапно она останавливается, и цветы, которые она держит в руках, летят в публику… Оставалось только перевести эту мысль на язык квантовой механики». Снова иносказание, снова символика, как и в случае с Кекулевой змеей. Похоже на то, что это был настоящий сон, а не работа возбужденного сознания. Можно ли, спрашивает Мигдал, увеличить эффективность подсознательных процессов? Чтобы сдвинуться с мертвой точки, считает он, надо сознательными усилиями, повторяя рассуждения и вычисления, довести себя до такого состояния, когда все «за» и «против» будут известны наизусть, а все выкладки будут проделываться в уме, без бумаги. Тогда решение придет само собой. Кто хотя бы однажды делал работу, лежащую на пределе возможного или даже за его пределами, тот знает, что есть только один путь — упорными усилиями, решением вспомогательных задач, подходами с разных сторон, отбрасывая все посторонние мысли, «довести себя до состояния, которое можно назвать экстазом (или вдохновением?), когда смешивается сознание и подсознание, когда сознательное мышление продолжается во сне, а подсознательная работа делается наяву». В своего рода «внутреннем» экстазе, вызванном несколькими каплями опия, находился Кольридж, сочиняя своего «Кубла Хана», Пуанкаре, подхлестнувший себя двумя чашками кофе, который ой до этого по вечерам не пил. Был в нем, возможно, и Вагнер, назвавший свое состояние не сном, а тревожной полудремотой. Кольридж, как мы помним, тоже сначала говорил не о сне, а о полузабытье. Экстаз, вдохновение, озарение, наитие — у этого состояния много названий, но суть одна: в тех случаях, когда в нем рождается новая научная идея, музыка, поэзия, когда оно не растворяется в бесплодном созерцании порой необычных видений, а сосредоточивает всю свою энергию на созидании, — тогда, в эти счастливые мгновения, сознание и бессознательное действуют сообща, удваивают свои усилия и, забывая все свои распри, наполняющие время от времени их будничную жизнь, сплетают дерзновение одного и осмотрительность другого в единый акт творчества, который приносит такие замечательные плоды, что самому творцу иногда все с ним случившееся кажется волшебным сном. РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В рассказе об открытии Пенфилда мы по традиции назвали одно полушарие доминантным, а другое субдоминантным. Терминология эта сегодня устарела: разделение обязанностей между полушариями зашло так далеко, что говорить о доминировании одного полушария над другим можно лишь с большими оговорками. Много лет назад американский психофизиолог Карл Лешли решил поискать, где же в мозгу хранятся воспоминания. Удаляя один за другим большие участки мозговой коры у обезьян и крыс, он смотрел, насколько у них ослабевает память. Память ослабела, но не пропорционально уменьшению количества коры, а гораздо медленнее, и Лешли заключил, что кора не хранилище воспоминаний, а просто участница процессов памяти. Физиолога Роджера Сперри это не убедило, и он вознамерился найти у кошки в зрительных зонах коры хранилище тех образов, благодаря которым она узнает геометрические формы. Волокна, идущие от глазной сетчатки, разделяются на два пучка и оканчиваются в затылочных долях обоих полушарий. По пути волокна сходятся, образуя так называемый перекрест, или хиазму. После хиазмы часть волокон, идущих от левого глаза, направляется к коре левого полушария, а часть — к коре правого. То же происходит и с волокнами правого глаза. Сперри перерезал у кошки хиазму так, чтобы волокна от левого глаза оканчивались только в левом полушарии, а волокна от правого — в правом. Потом кошке завязали один глаз и научили ее различать квадрат и круг. Если образы хранятся в зрительной зоне коры, то теперь они будут формироваться только в одном полушарии — в том, куда идут нервные волокна от глаза. Но фигуры узнавал как один глаз, так и другой. Очевидно, образы перешли из одного полушария в другое через мозолистое тело, соединяющее нейроны правого и левого полушарий. Сперри перерезал мозолистое тело, и «необученный» глаз так и остался необученным. Больше того, его можно было научить узнавать другую геометрическую фигуру. Один глаз узнавал квадрат, другой — круг: в одном полушарии хранился один навык, а в другом — другой. Сперри понял, что перед ним идеальная модель раздвоения личности. Опыты были продолжены на обезьянах, а затем мозолистое тело стали рассекать и людям. Эта операция избавляла некоторых больных от тяжелых психических страданий. Но после нее люди вели себя так, словно у них было два мозга, хотя никто не обучал их полушария по отдельности. Это могло означать только одно: у людей каждое полушарие занято своим особым делом. Когда больной видел картинку только правым полушарием, он не мог сказать, что на ней изображено, хотя и был в состоянии правильно выбрать ее из нескольких картинок, показываемых ему одновременно. Когда его просили срисовать кубик, он мог сделать это только левой рукой: правая чертила на бумаге лишь не связанные между собой линии. Затем исследования были перенесены на здоровых людей. Американские ученые Орнстейн и Галин обнаружили, что когда человек пишет письмо, его правое полушарие бездействует, генерируя альфа-ритм, сопутствующий, как мы помним, душевной расслабленности. Когда же его просят сложить определенный узор из цветных элементов, за работу принимается правая сторона мозга, а левая отдыхает, генерируя тот же альфа-ритм. В конце концов удалось установить, что у правшей, то есть у большинства людей, левое полушарие не только ведает речью, о чем знали давно, но и управляет письмом, а также решает логические и математические задачи. Правое же полушарие обладает музыкальным слухом, хранит воспоминания о формах и структурах, умеет опознавать целое по его частям и склонно к творческим нововведениям. В некоторых случаях, правда, обнаружились и отклонения от этого правила. То музыкальными были оба полушария, то у правого находили запас слов. Совершенно неграмотное правое полушарие могло научиться читать и писать за полгода, словно оно умело все это, но подзабыло. Но в основном закономерность сохранялась: одну и ту же задачу оба полушария решали с разных точек зрения. Философ Роджер Бэкон говорил, что существует два способа познания — посредством рассуждения и посредством опыта. Получалось, что первым способом пользуется левое полушарие, а вторым правое. Однако нейрофизиологам требовались «объективные» показатели функциональной асимметрии полушарий. Могут ли, например, реакции полушарий на один и тот же стимул различаться по характеру биоэлектрических потенциалов? Оказалось, могут. «Биологический ответ» субдоминантного правого полушария на световую вспышку, воспринимаемую глазами, чаще всего обладал большей амплитудой, чем ответ левого полушария. Сначала было подумали, что правое полушарие просто восприимчивее левого, но потом увидели, что большая амплитуда его ответа состоит в основном из «осколков» все того же альфа-ритма. Что же это значит? Загадку помогли разрешить опыты, проведенные в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии в Москве. В опытах испытуемые рисовали в своем воображении зрительные образы, активизируя таким способом правое полушарие, и производили операции со словами и числами, активизируя левое. Выяснилось, что правое полушарие пребывает в заторможенном состоянии и не растормаживается до конца, даже если его нагрузить работой. Этой заторможенностью и объясняется присутствие альфа-ритма. Но несмотря на то, что правое полушарие и остается всегда в тени, общую стратегию поведения во многом определяет именно оно. Его пожелания, сформулированные в обобщенной, интуитивно-образной форме, доводятся до сведения левого полушария и соблюдаются неукоснительно. Ведает ли оно само, что творит? Как показали опыты с разобщением полушарий, даже очевидные поведенческие реакции, вызванные воздействием на правое полушарие, человек не осознает. Критике подвергается лишь то, что делает левое полушарие. Похоже на то, что правое полушарие существует лишь для того, чтобы подвергать сомнению мысли левого. Внутренний оппонент, да и только! Функциональная асимметрия полушарий налицо. А нет ли у нее анатомического аналога? Почему, например, световое раздражение правого глаза вызывает в обоих полушариях более определенный ответ, чем раздражение левого? Потенциалы, генерируемые сетчаткой обоих глаз, одинаковы. Все связи правого и левого зрительного нервов с подкорковыми структурами тоже одинаковы. Под подозрением остается одна лишь правая височная доля. При некоторых формах височной эпилепсии эту долю приходится удалять, и тогда восприятие и запоминание зрительной информации ухудшаются. И эта асимметрия свойственна только человеку. Чтобы нарушить таким способом зрительные функции у животного, нужно затронуть височные доли с обеих сторон. Некоторые объясняют особую роль правой височной доли у человека тем, что ее связи со зрительными областями противоположного полушария крепче, чем такие же связи у левой височной доли. Эти связи как бы наслаиваются на более древние височно-зрительные связи, действующие в пределах одного полушария. Активность новых связей и отражается в асимметрии биологических ответов затылочных зон, где находятся ассоциативные зрительные поля. АНАТОМИЯ ДИАЛОГА Насчет височной доли еще не все ясно, но вот то, что одно из полушарий обладает ярко выраженной интуицией, выполняет роль критика и предпочитает оставаться в тени, установлено со всей достоверностью. Чтобы понять, что все это означает, особенно последнее, нужно вспомнить, что за интеллектуальной сферой всегда стоит сфера мотивов и эмоций. Утверждать, что наши полушария заняты одной лишь творческой деятельностью, переработкой информации и так далее, было бы чересчур самонадеянно: интеллектуальные пиры составляют, быть может, лучшую, но не большую часть программы мозга. Выход из строя правого полушария не вызывает катастрофических нарушений интеллекта, но на сфере эмоций отражается серьезно. Человек становится безразлично-благодушным ко всему, в том числе и к собственной болезни. И наоборот, если выходит из строя левое полушарие, человек ощущает тоску, подавленность, беспокойство, страх. У каждого полушария есть своя сонная артерия, по которой к нему поступает кровь. Если в эту артерию ввести снотворное, то получившее его полушарие быстро заснет, а другое, прежде чем присоединиться к первому, успеет проявить свою истинную сущность. И вот при таком последовательном усыплении выяснилось, что подавление правого полушария сопровождается маниакальными реакциями, неестественным возбуждением и глупыми шутками, а подавление левого — глубокой депрессией. Сущность правого полушария, таким образом, — «дух отрицанья, дух сомненья», сущность левого — безоглядный оптимизм. Поистине прав был поэт: Ах, две души живут в больной груди моей, Каждое полушарие в отдельности — образец эмоциональной нетерпимости, каждое норовит воспользоваться ослаблением собрата, чтобы навязать мозгу свою волю. Но в слаженном дуэте пороки участников отступают на задний план, а добродетели выходят на передний. Левое, доминантное, полушарие обладает завидным запасом энергии и жизнелюбия. Это счастливый дар, но сам по себе он непродуктивен. Тревожные опасения правого, очевидно, действуют отрезвляюще, возвращая мозгу не только творческие способности, но и самую возможность нормально работать, а не витать в эмпиреях. Оно действительно идеальный оппонент. Излишнее пренебрежение советами правого полушария не опасно для жизни. На худой конец, оно прибавит нам беспечности. Зато его неумеренная активность может не только воспрепятствовать реализации интеллектуальных усилий, но и вызвать сомнение в ценности самой жизни. Затем, быть может, природа и накинула на него некоторую узду в виде альфа-ритма, гасящего пламя его отрицательных эмоций. А не связана ли межполушарная асимметрия с творческими функциями сознания и бессознательного? Оба они, как мы знаем, вступают иногда в сложные и противоречивые отношения: новаторские взлеты бессознательного и здоровый консерватизм сознания противостоят друг другу, но вместе с тем и помогают друг другу. «Мыслить, — говорил Кант, — это значит г о в о р и т ь с самим собой… слышать себя самого». «Для доказательства необходимы д в а л и ц а, — соглашался с Кантом Фейербах, — мыслитель р а з д в а и в а е т с я при доказательстве: он сам себе противоречит, и лишь когда мысль испытала и преодолела это противоречие с самой собой, она оказывается доказанной… Усомниться в самом себе — высшее искусство и сила». Филологи Е. Ф. Будде и Л. В. Щерба, изучив историю великорусских говоров и язык лужичан, живущих среди немецкого населения в Средней Европе, утверждали, что в далекие времена монологов никто не вел, велись одни диалоги. Монолог, по мнению Щербы, в значительной степени искусствен; подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге. Часто монологи не могут скрыть своего происхождения: разве не диалог с самим собой знаменитое «быть или не быть?» или последнее размышление Сальери у Пушкина? Каждая мысль у Достоевского, замечает критик М. М. Бахтин, «ощущает себя репликой незавершенного диалога». Диалогические отношения — «почти универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь и все отношения и проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение». Когда философы и ученые хотели рассмотреть предмет всесторонне, они прибегали к форме диалога. В диалогах Платона или «Беседах» Галилея экспериментирующий разум изобретает все новые и новые отождествления противоположных определений и с наслаждением мыслит вслух в беспрерывном столкновении противоборствующих точек зрения. В наше время диалогов и «Бесед» не пишут. Но диалоги — с собеседником ли внешним, с собеседником ли внутренним — ведутся беспрестанно. Пуанкаре удалось услышать такой диалог, и он определил место каждого из собеседников и их роль. Кто не слышит его, тот ищет собеседника внешнего. Приглашая к себе молодого американского физика Кронига, Вольфганг Паули писал ему: «Ваша единственная задача будет состоять в том, чтобы противоречить мне, тщательно все обосновывая». Паули стоял на пороге гениального открытия: он догадывался, что, кроме уже известных частиц — протонов и электронов, в ядре содержится еще одна частица, а может, и две (нейтрон и нейтрино). Но без оппонента он не мог двинуться дальше. Если бы доказательство было легким делом, Платону и Галилею не понадобилось бы прибегать к форме диалога, Пуанкаре не искал бы обходных путей для взятия своей крепости, а Мигдал не говорил бы о пользе экстатического состояния… Так что же хочет автор сказать всем этим? Что известный антагонизм между сознанием и бессознательным равноценен антагонизму между полушариями, что, может быть, с одним из них больше связано сознание, а с другим — бессознательное и что функциональная асимметрия полушарий существует ради того, чтобы в ходе их бесконечного диалога рождалась истина? Нет, сколь ни соблазнителен этот путь, автор видит на нем непреодолимые пока препятствия. Кажется само собой разумеющимся, что левое полушарие, ведающее речью и письмом и решающее логические задачи, должно быть больше связано с сознанием, а правое, оперирующее образами и предпочитающее логике интуицию, — с бессознательным. Но ведь правое — это неутомимый критик и одергиватель левого, а критика и одергивание — дело сознания. Значит, наоборот? Но можно ли сочетать логику и бессознательное, интуицию и сознание? Не выходит и наоборот. Такие же противоречия обнаруживаются и в попытках связать межполушарную асимметрию со сновидениями. Так как в сновидениях преобладают зрительные образы и как бы отсутствует обычная логика, то во время быстрого сна правое полушарие вроде бы должно быть активнее левого. Но подтверждают ли это клинические наблюдения? Неврологи проанализировали однажды отчеты о сновидениях у нескольких десятков больных с пораженными полушариями и выяснили, что болезнь изменила характер сновидений у половины больных с поврежденным правым полушарием и лишь у трети — с левым. Из этого можно было бы заключить, что со сновидениями больше связано правое полушарие. Но вместе с тем у больных с пораженным левым полушарием и с нарушенной из-за этого речью на треть уменьшилась доля быстрого сна и более чем втрое снизилось количество быстрых движений глаз, то есть сновидений, а у больных, у которых речь сохранилась, доля быстрого сна вместе с движениями глаз даже увеличилась. На этом основании врач Б. Гафуров сделал вывод: «Информационные процессы в быстром сне связаны в основном не с правым, а с левым полушарием». В ОРЕХОВОЙ СКОРЛУПЕ Эти неразрешимые противоречия не мешают некоторым американским психологам верить, что в межполушарной асимметрии спрятан ключ ни больше ни меньше как к духовному обновлению общества. Каждый человек, говорят они, обладает как бы двумя умами — рационалистическим, инженерным и художническим, артистическим. Жизнь в «технологическом обществе», в окружении точной и сложной техники, способствует развитию лишь одного ума — рационалистического и лишь одного полушария — левого. Программы обучения в американских школах рассчитаны в основном на рационалистический подход к жизни, на левое полушарие; из-за этого общество развивается чрезвычайно односторонне. Людей нужно научить переключаться с одного полушария на другое. Тогда во всех сферах жизни наступит эра благодетельного оптимума, золотой середины. Чтобы научиться переключению, надо получить контроль над деятельностью своей нервной системы, своего мозга, а для этого сначала освоить метод «обратной биосвязи». Налепите на свои мышцы электроды, присоедините их к аппарату, издающему звук определенного тона, когда мышца напряжена, и обратная связь установлена. По мере того как мышцы станут расслабляться, звук будет становиться мягче, а когда расслабятся совсем, звук и вовсе замрет. Когда вы научитесь управлять мышечным тонусом, переходите к биотокам мозга. Принцип управления тот же. Всякий раз, когда мозг будет генерировать определенный ритм, перед вами начнет мигать лампочка, соединенная с электроэнцефалографом. Таким способом можно довольно быстро научиться множеству полезных вещей — вызывать нужные вам мозговые ритмы, гасить сердцебиение, регулировать частоту дыхания, понижать кровяное давление. В конце концов вы будете лучше спать, исчезнет психическое напряжение, к вам вернется утраченное спокойствие и оптимизм, ясность мысли и сосредоточенность, расцветут подавленные неправильным образом жизни и воспитанием художественные и артистические способности и установится полная гармония ума и чувств. Никаких чудес тут нет. Создали же йоги целую систему контроля над своими физиологическими процессами. Они могут по собственной воле и без всяких приборов замедлять обмен веществ и деятельность сердца настолько, что им не причиняет особенного вреда долгое пребывание под землей в заколоченном ящике. И этим они обязаны доведенному до немыслимого совершенства контролю над дыханием и умению погружаться в созерцательное самоуглубление. Самоуглубление — вот высшая степень власти над нервной системой и мозгом. Во время самоуглубления на электроэнцефалограмме преобладает альфа-ритм. Надо научиться генерировать его по собственному желанию, и самоуглубление придет вместе с ним. И вот уже несколько бойких фирм начинают выпускать дешевую «альфа-аппаратуру» и быстро расплодившиеся «институты обратной биосвязи» наперебой рекламируют эффективность своих методов. Но увы! Альфа-аппараты не оправдывают возлагавшихся на них надежд: они недостаточно чувствительны для сортировки мозговых биотоков. Да и сам метод таит в себе неразрешимое противоречие. Альфа-ритм — спутник некоторой отрешенности, расслабленности внимания, но как можно отрешиться от всего и одновременно следить за показаниями прибора, расслаблять свое внимание и в то же время натягивать вожжи обратной связи? Какое уж там созерцание и самоуглубление! То ли дело метод «трансцендентального созерцания» — все как у йогов, и никаких противоречий! Тысячи людей выбрасывают свои никчемные альфа-аппараты и дважды в день отключаются от текущих забот. Они принимают определенную позу, сосредоточивают свое внимание на специально выбранном слове или на сочетании звуков и погружаются в своего рода транс — в состояние глубокой расслабленности, которая, по их утверждению, освежает и укрепляет их лучше всякого сна. Упражнения делают по специальной программе, разработанной известным йогом Махариши Махешем. Вы слушаете две лекции, затем участвуете в четырех занятиях, и всё — можете заниматься самостоятельно. По окончании курса вам сообщают вашу личную «мантру» — сочетание звуков, повторяя которые вы сможете обрести душевный покой и обостренное сознание. И тут уж будет все без обмана — и управление дыханием, сердечным ритмом и кровяным давлением, и снятие психического напряжения, и просветление взора, и трансцендентальное созерцание — такое трансцендентальное, что трансцендентальней и не бывает. Для самосозерцания и самоуглубления лучше побыть одному, но для того чтобы познать себя и получить истинное душевное облегчение, иногда требуется общество, и общество не простое, а в своем роде избранное. Этой цели служит метод «группового анализа». Собирается человек двенадцать, и руководитель, опытный психолог, побуждает их выражать и исследовать свои собственные чувства. Анализу подлежат такие чувства, которые человек в силу нравственных запретов или под влиянием социальных условностей обычно подавляет. Группа становится своего рода лабораторией, где от каждого человека требуется давать выход любым накопившимся у него эмоциям — от взрывов бешенства до нежной ласки. По мнению психологов Морфи и Прайса, это лучший метод самопознания и очищения духа от тягостных наслоений. Групповой анализ напоминает нам «мозговой штурм» — широко известный способ активизации бессознательной творческой интуиции, применяемый для решения изобретательских задач. Собирают небольшую группу людей разных специальностей, перед ними ставят техническую задачу. Высказывать можно любые идеи, в том числе фантастические, парадоксальные, абсурдные. Регламент — минута. Идея высказывается без доказательств. Не разрешается никаких критических замечаний и скептических улыбок. Сознанию не остается времени спохватиться и выступить в роли внутреннего цензора. Штурм длится полчаса — вполне достаточно, чтобы увести мысль с проторенных дорожек. Люди говорят все, что им взбрело в голову, любую чепуху. И очень часто среди этой чепухи обнаруживается рациональная идея. Иногда мозговой штурм дополняется методом синектики, что в переводе с греческого означает совмещение разнородных элементов. Группе предлагается искать неожиданные ассоциации. Объект, который надо усовершенствовать, сравнивают со сходным объектом из другой отрасли техники или с явлением природы. Ставится, например, задача — улучшить процесс окраски мебели. Люди вспоминают, как окрашивают минералы, цветы, бумагу, телевизионное изображение. Это непосредственная аналогия. Существует еще личная аналогия: человек должен вжиться в образ объекта, мысленно превратиться то в скопление пыли, которое надо убрать из цеха, то в растение, умирающее от жажды в цветочном горшке, то в винт, который не хочет отвинчиваться, то в ядро ореха, которому надо выбраться из скорлупы. ОПЕРАЦИЯ В ПОЛЫНЬЕ Но при чем здесь полушария? Да конечно, ни при чем. Все эти методы — и обратная биосвязь, и трансцендентальное созерцание, и особенно групповой анализ — направлены, в сущности, на то, чтобы частично парализовать сознание и дать волю бессознательному. Человек ставит на время завесу между собой и «рационалистическим» миром, который по тем или иным причинам стал для него невыносим, и погружается либо в полусонный транс, либо в состояние инфантильной расторможенности. И то, и другое, возможно, благотворно действует на психику. Но из этого вовсе не следует, что в подобных состояниях у человека хотя бы частично выключается левое полушарие и включается правое. Этого не происходит даже тогда, когда человек отождествляет себя с ядром ореха или с горсткой пыли. Таких переключений можно достигнуть только при нейрохирургической операции или в экспериментах с введением в артерию барбамила. Природа создала полушария, чтобы они работали сообща, а не по очереди. Нет, деятельность наших полушарий сбалансирована превосходно, и нарушать ее, даже если бы это и было возможно, нет никакого смысла. Излишне вольное обращение с данными нейрофизиологии и, главное, чересчур прямолинейное их толкование приводит только к конфузу. История с «альфа-аппаратурой» — лучшее тому доказательство. А сколько разговоров было в свое время о гипнопедии — обучении во сне! Перво-наперво, как водится, говорилось, что это очень старый метод: еще, мол, в древней Индии и в Элладе учителя нашептывали своим спящим ученикам всякие полезные сведения, и те запоминали их с ходу. Да и в наш век якобы было проведено немало удачных опытов. Особенно восприимчивы спящие к иностранным языкам, к разным механическим сведениям, требующим затверживания и навыка вроде азбуки Морзе или расписания поездов. О чем еще мечтать! Иди в лабораторию гипнопедии или в особый гипнопедический класс, ложись спать и заучивай под шепот магнитофона что хочешь. Хочешь — неправильные глаголы, хочешь — анатомические термины, да хоть всего Брокгауза. Ретрограды, правда, тут же заворчали: не вреден ли такой способ «введения информации в мозг» и не улетучивается ли воспринятая информация так же легко, как и воспринимается? Но не успели энтузиасты гипнопедии дать достойную отповедь ретроградам, как сама собой обнаружилась ее ахиллесова пята. Запоминать новую информацию удавалось только на самой начальной стадии дремоты, когда все тот же альфа-ритм, этот целитель всех недугов и на все руки мастер, еще не уступил место сонным веретенам. Но как удержаться на этой стадии и не заснуть под убаюкивающее журчание магнитофона или, чего доброго, не повернуть обратно в бодрствование? Кто старался удержаться от сна, не мог внимательно слушать, а кто не старался — засыпал. У тех же, кому удавалось держаться середины, удлинялся поверхностный сон и укорачивался глубокий. Ничего хорошего их нервной системе это не сулило. Гипнопедия благополучно зачахла, как чахнут в конце концов все попытки беззастенчивого вмешательства в естественные, изобретенные природой процессы и явления. Иное дело, скажем, гипнотерапия. Она имеет дело с особым сном. Если она и вмешивается в него, то по праву, ибо она сама же и вызывает его. Да и сон ли это? Называем мы его сном только по традиции, восходящей к доктору Брейду, который ввел в медицину термин «гипноз». В XVIII веке венский врач Франц Антон Месмер, тот самый, который первый решил, что мы бодрствуем ради сна, изобрел способ доводить своих пациентов до состояния транса при помощи магнита, которым он водил над их телом. Сам он, по-видимому, верил в то, что чудодейственная сила исходит от магнита, а не от него самого. Ученик Месмера, граф Максим де Пюисегюр, опубликовал в 1784 году сообщение о своих гипнотических опытах, в котором неопровержимо доказал, что человеческая психика восприимчива к внушению, а магниты — дело вкуса. Но способность к внушению долго еще продолжали называть магнетизмом, а тех, кто ее демонстрировал, магнетизерами, — до тех пор, пока гипноз не стал достоянием невропатологии и психиатрии, а потом и хирургии. В наши дни нейрофизиологи доказали, что гипноз — это вовсе не сон. Электроэнцефалограмма человека, находящегося под гипнозом, зарегистрировала волны напряженной сосредоточенности. «Когда вы сосредоточиваетесь, вы всегда впадаете в своего рода транс, — говорит по этому поводу американский психиатр Герберт Спигел. — Врачи и гипнотизеры просто используют эту вашу естественную способность». Способностью или наклонностью к трансу наделены две трети всех людей — одни в большей, другие в меньшей степени, и Спигел даже придумал тест для точного ее определения. Сначала пациента просят закатить глаза и, не меняя их положения, опустить веки. Оценка производится по шкале от нуля до четырех, в зависимости от того, как далеко глазам удалось закатиться. Если белков совсем не видно, пациент получает низшую оценку, если видны только белки, высшую. Затем пациенту говорят, что рука его стала такой легкой, что сейчас всплывет. Если она после этого действительно «всплывает», то есть как бы сама собой поднимается кверху, пациенту ставят четверку. Если же для всплывания требуется более конкретное указание вроде того, например, что к руке привязали воздушный шар, больше, чем на двойку рассчитывать нечего. Спигелу пришел в голову этот тест, вернее, первая его часть, когда он заметил, что, погружаясь в транс, люди закатывают глаза. Отчего это происходит, точно не выяснили. Известно только, что мозговые отделы, управляющие движениями глаз, соседствуют с восходящей активирующей системой, помогающей нам сосредоточиваться. Гипноз оказался превосходным средством против фобий — страхов, возникающих при сочетании неблагоприятных обстоятельств, а затем взращенных самовнушением, — боязни высоты, темноты, открытого или закрытого пространства, боязни рампы у актеров. Вот один из методов лечения. Пациента просят представить себе, что он смотрит на экран, где показаны тревожащие его проблемы, затем ему предлагают расслабиться. Постепенно он научается переносить все свои страхи «в перспективу», и тогда они теряют над ним власть. Гипнозом лечат от гастрита, от воспаления кишок. Но эффективнее всего гипноз во время хирургических операций, особенно если пациенты не переносят наркоза. Одного больного загипнотизировали и предложили ему представить себе, что его шея и дыхательные пути похолодели и лишились чувствительности. Потом ему удалили часть легкого. После операции, длившейся почти три с половиной часа, больной рассказал, что он представлял себе, будто плавает в полынье вместе с тюленями и пингвинами. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПОЛА МОРФИ Московский врач-гипнолог В. Л. Райков внушил одному своему пациенту, что тот Репин, а другому — что тот знаменитый шахматист Пол Морфи. Первый, рисовавший до этого, как все, стал рисовать гораздо лучше и постоянно консультировался с Райковым, принимая его за своего учителя Чистякова, а второй «на нервной почве» обыграл самого Таля. Этим людям внушалось также состояние общего творческого подъема, продолжавшееся потом по инерции три-четыре дня. Все это время на их электроэнцефалограммах видны были вспышки тета-ритма высокой амплитуды — показателя напряженного бодрствования. Иногда, к удивлению экспериментатора, тета-ритм перемежался медленными дельта-волнами с амплитудой от 50 до 70 микровольт и частотой 2 — 3 герца. Такие волны свойственны только глубокому сну. Райков пишет, что состояние, которое ему удавалось вызвать у своих испытуемых, судя по всему, оптимально для творческой деятельности, для мобилизации всех эмоциональных и физических сил. Возможно, говорит он, способность к гипнозу сформировалась в процессе эволюции как особая форма сосредоточенности, при которой «информация может усваиваться быстро, полно и глубоко и вместе с тем столь же быстро происходит мобилизация творческой активности». Если то, что внушается, неприемлемо для личности, поступающие извне сигналы блокируются, и человек впадает в состояние сильной каталепсии или обморок с дальнейшей спячкой. Его организм вспоминает уловки его далеких предков. Если же, наоборот, внушаемое желательно, ему будет отдаваться предпочтение перед всем прочим. Для того, кто погружен в гипноз, сигналы, связанные с внушением, приобретают особое значение, а не связанные — почти не существуют. Слова гипнотизера «вы засыпаете», «вы спите» включают в определенной последовательности не гипногенные зоны, а какие-то иные аппараты, которые фильтруют информацию — одну отсеивают, другую усиливают. Посторонние раздражители перестают проникать в сознание человека. Восприятие обрабатывает только внушаемую информацию, и та отражается в его новом теперь сознании как объективная реальность. В этом состоянии просыпается и пышно расцветает фантазия. Когда человеку внушают, что он видит некий цветок, он может подтвердить и уточнить: «Да, вижу, это ромашка». Память воспроизводит первый попавшийся «знак», связывая его с наиболее яркими переживаниями, относящимися к этому цветку. Когда гипнотизер говорит о розе, то следует более или менее стереотипный ответ: «Да, это роза, как чудесно она пахнет!» Но когда человеку внушается еще никем не виденный цветок, растущий на другой планете, он может сказать, что видит и его, и всю планету, и описывает все это в красочных подробностях. В глубоком гипнозе человек не знает ничего, кроме того, что ему внушают. В такое состояние легче всего перевести его ночью, после медленного сна: естественный сон без помех превращается в гипнотический транс. Если в этом состоянии внушается образ другой личности, то, пишет Райков, прежде всего будет «заблокировано знание о самом себе, а затем на основе реальных знаний и воображения сформируется новое самосознание». Затем человеку внушается нормальная творческая активность, и новая бодрствующая личность готова. О себе истинном человек ничего не знает, друзей своих и родных не узнает, даже себя в зеркале и то не узнает. Опыт, знания, память, восприятие — все приспосабливается к новым задачам. После сеанса человек ничего не помнит, но в очередном сеансе вспоминает все, что было с ним в предыдущем. В нем как бы живут две личности. Единственное, чего не может вспомнить человек в гипнозе, это своих сновидений во время обыкновенного ночного сна. Отсюда Райков делает вывод, что гипнотическое состояние никак не связано с тем бессознательным, где, по Фрейду, формируются наши сновидения. Но внушить в гипнозе тематику будущих сновидений, оказывается, можно. Одному своему пациенту Райков внушил, что тот должен увидеть себя в Африке, во сне будут преобладать голубые тона и проснется он в радостном настроении. Наутро он услышал от пациента подробный рассказ об Африке. Гипноз и сон имеют, как мы видим, и общие черты, и серьезные различия. Загипнотизированные беседуют с врачом, играют в шахматы, рисуют, читают. Они надевают на себя новую личину и живут в ней по нескольку дней, а иногда и по нескольку месяцев. Бывает также, хотя и редко, что под влиянием душевных потрясений и особой нервной организации люди впадают в гипнотический транс сами собой, и тогда с ними случаются поразительные вещи. В своей книге о неврозах доктор Пьер Жане описывает Леонию Б. В обычном состоянии это была грустная и застенчивая крестьянка сорока пяти лет. Но стоило ее подвергнуть гипнозу, как в ней просыпалась вторая личность, и она вся преображалась. Она делалась весела, шумна, подвижна; остроумие ее было неистощимым. Глаза ее не открывались — все, что с нею происходило, было как бы во сне. При этом она уверяла, что зовут ее не Леония, а Леонтина. Граница между ними была очень зыбкой, и Леония иногда сама превращалась в Леонтину. Однажды Жане получил письмо от обеих сразу. На первой странице было короткое и почтительное послание, подписанное Леонией. Письмо на другой странице было совсем в ином стиле. Написано оно было женщиной самовлюбленной, капризной и эгоистичной. Леонтина жаловалась на то, что Леония надоедает ей и мешает ей спать. Леония ничего не знала о Леонтине, Леонтина знала о Леонии все и относилась к ней с пренебрежением. Себе она приписывала все переживавшееся ею в состоянии гипноза, а Леонии — все, что происходило в часы бодрствования. Леония Б. принадлежала к некогда многочисленной армии сомнамбул. Неуравновешенность их натур делала их сознание таким расплывчатым и хрупким, что они превращались в кого угодно самопроизвольно. Название свое они получили от латинских слов somnus — сон и ambulo — хожу; те, кто ходит во сне. Среди сомнамбул, или лунатиков, встречаются, впрочем, и сильные натуры. Такова, например, леди Макбет. Вспомните, как она бродит по замку, терзаясь муками совести и страхом возмездия. В начале пятого акта придворная дама рассказывает врачу, что леди Макбет встает с постели, накидывает ночное платье, берет из стола бумагу, раскладывает ее, что-то пишет, перечитывает написанное, запечатывает и снова ложится в постель. Во время этого рассказа входит леди Макбет со свечой. «В р а ч. Видите, глаза ее смотрят на нас! П р и д в о р н а я д а м а. Да, но они ничего не видят. В р а ч. Что это она делает? Как беспокойно она трет свои руки! П р и д в о р н а я д а м а. Это ее привычка. Ей кажется, будто она их моет. Иногда это продолжается целые четверть часа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Л е д и М а к б е т. Ах ты, проклятое пятно! Ну когда же ты сойдешь? Раз, два… Ну что же ты? Пора за работу. Ада испугался? Фу, фу, солдат, а такой трус!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В р а ч. Ее недуг не по моей части. Но я знал лунатиков, ни в чем не повинных, которые спокойно умирали в своих постелях». Начинается сомнамбулизм в медленном сне, когда человек еще не заснул очень глубоко и мышцы его не ослабели. Мечников отмечает, что сомнамбулы «большей частью повторяют обычные действия их ремесла и ежедневной жизни, к которым у них развилась бессознательная привычка. Мастеровые выполняют ручную работу. Швеи шьют. Прислуги чистят обувь и одежду, накрывают на стол. Люди более высокой культуры предаются той умственной работе, которая им более всего привычна… Духовные лица в сомнамбулическом состоянии сочиняют проповеди…» Но нередко действия сомнамбул выходят за пределы привычек. Они лазают по карнизам и крышам, ходят купаться к далекой реке. Истории медицины известна целая семья сомнамбул, состоявшая из шести человек. По ночам все шестеро собирались в столовой, молча пили чай, а затем расходились по своим комнатам. Все движения сомнамбулы отличаются необыкновенной ловкостью. Это всегда поражало очевидцев: идет человек по карнизу — и хоть бы что. Объясняется это тем, что в бессознательном состоянии у человека нет ни малейшей скованности, его не пугает, что он может свалиться с крыши, — вот он и не сваливается. Вместе с тем он без труда ориентируется в окружающей обстановке, а значит, хоть и бессознательно, но анализирует поступающие к нему сигналы и извлекает из памяти какие-то сведения, необходимые для его затей. Иногда от него можно получить ответ и добиться выполнения приказа. После своих прогулок сомнамбула спит крепким сном и о них почти ничего не помнит.  |
|
||
| Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх | ||||
|
|
||||
