|
||||
|
|
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ВЕЛИКАЯ КОЛУМБИЯ Трудные переговоры
ПОИСКИ МИРА С ИСПАНИЕЙВ официальных документах и многих письмах Боливара содержатся свидетельства его постоянных и глубоких раздумий об исторических судьбах Испании и политике восставших колоний по отношению к своей «матери-родине». «Мир испанской нации! Беспощадная война ее нынешнему правительству!» — провозглашал Боливар, разъясняя необходимость всегда разграничивать смелый, благородный, свободолюбивый испанский народ и реакционную монархию Испании с ее камарильей. «Не все испанцы являются нашими врагами, — писал Боливар испанскому генералу М. Реновалесу, вставшему на сторону патриотов. — …Гордость Испании составляют родившиеся в ее лоне благородные души и возвышенные натуры, которые, словно ангелы-хранители, спешат поддержать святое дело свободы в нашей стране…».[144] Важнейшей задачей своей дипломатии Освободитель считал поиски союза патриотов борющихся колоний с народной Испанией. «Необходимо делать все возможное для объяснения испанской нации, что ее интересы отличны от интересов правительства и… истинные преимущества для нее состоят в тесном союзе с независимой Америкой».[145] Возможен ли был такой союз? Известия о скрытом брожении в Испании, стонавшей под гнетом короля-мракобеса и его приспешников, доходили до колоний и порождали надежды на скорые перемены на Пиренейском полуострове и окончание войны, длившейся уже целое десятилетие. Обращаясь к испанским революционерам, Боливар призывал их: «Война потеряла смысл… Будьте справедливы к Америке, и мир и дружба установятся между американцами и испанцами».[146] Революционные события начались в Кадисе, где по приказу Фердинанда VII в помощь Морильо готовился огромный экспедиционный корпус. Из этого порта 20 тыс. пехотинцев и 3 тыс. кавалеристов на 100 кораблях должны были отправиться в Южную Америку. Однако 1 января 1820 г. в экспедиционной армии вспыхнуло восстание, которое возглавили офицеры-демократы Р. Риего и А. Кирога. Они больше не хотели участвовать в колониальной войне и требовали восстановить в стране конституционный режим. К восставшим присоединились жители других городов. В Испании грянула вторая буржуазная революция. Фердинанд VII был вынужден присягнуть на верность демократической Конституции 1812 года и согласиться с созывом кортесов. К власти пришло правительство буржуазных либералов. Кортесы потребовали от генерала Морильо присягнуть на верность Конституции и добиваться национального примирения в колониях. Фердинанд VII, по настоянию кортесов, направил колониальным властям во всей Америке два циркуляра. Первым предписывалось освободить из тюрем всех политических заключенных. Второй циркуляр обязывал начать переговоры с патриотами с целью прекращения опустошительной войны в Новом Свете.[147] В соответствии с полученными указаниями генерал Морильо обратился к конгрессу в Ангостуре и Боливару с предложением заключить перемирие, для того чтобы начать затем мирные переговоры. Положение испанского наместника в колониях после понесенных серьезных поражений было трудным. Революция в Испании вызвала распри в его лагере. Начались острые столкновения между конституционалистами и сторонниками абсолютной монархии. Морильо надеялся в ходе переговоров получить передышку и выиграть время. Боливар ответил согласием. Он искал пути к миру с Испанией и также нуждался в передышке. Не все патриоты понимали замысел Освободителя. Горячие головы хотели немедленно воспользоваться затруднениями Морильо. Боливар объяснял им: «Положение нашей армии не позволяет нам начать новую военную кампанию. Она нуждается в реорганизации. Время работает больше на нас, чем на Морильо. Предоставляется великолепная возможность для переговоров. Речь идет не о мире или капитуляции, а только о перемирии, а также подходящем случае заявить всему миру о нашем рождении в качестве суверенной нации».[148] Действительно, обращаясь к Боливару с предложением о переговорах, Морильо пришлось употребить слова, которые раньше застревали у испанцев в горле: «Его Превосходительство президент Республики». По существу, это было первым официальным признанием де-факто новой политической реальности, а именно появления суверенного государства на месте бывшей колонии. Боливар поручил ведение переговоров о перемирии генералам Р. Урданете и П. Брисеньо-Мендесу. Когда возникли опасения, что дело зашло в тупик, он направил им в помощь своего ближайшего сподвижника, молодого венесуэльского генерала Антонио Сукре. Пятнадцатилетним юношей в 1810 году он присоединился к патриотам, вместе с Боливаром прошел через огонь многих сражений, завоевав его сердце беззаветной храбростью и яркой одаренностью своей натуры. Теперь ему поручалось возглавить делегацию патриотов. На переговорах им противостоял испанский триумвират: генералы Г. Корреа, Р. Topo и Ф. Хуан-и-Гонсалес де Линарес. Их действиями непосредственно руководили Морильо и его заместитель маршал Латорре, несколько раз встречавшиеся с Сукре. Морильо требовал признания патриотами испанской Конституции 1812 года, не предусматривавшей предоставления колониям полной независимости, в качестве непременного условия заключения мирного договора. Боливар категорически отверг это требование. «Только безоговорочное признание Испанией независимости Колумбии может положить конец войне»,[149] — говорилось в его ответе Морильо от 21 июля 1820 г. Поэтому речь на переговорах шла только о заключении перемирия и гуманизации методов ведения военных действий. Продолжались они несколько месяцев и напоминали испанский народный танец — шаг вперед и два шага назад. От участников потребовались большие усилия, чтобы преодолеть разногласия, касавшиеся линий разграничения войск и других условий прекращения военных действий. Наверное, самым веским аргументом патриотов были их новые боевые успехи: испанским войскам пришлось оставить города Мериду, Трухильо и Санта-Марту. 25 ноября 1820 г. состоялось подписание соглашения о перемирии сроком на шесть месяцев и договора об упорядочении ведения войны в соответствии с законами цивилизованных народов. Тем самым была подведена черта под трагической эпохой «войны насмерть», и участники договора взяли на себя обязательство не применять репрессий в отношении гражданского населения. Договорились об обмене пленными и захоронении погибших.[150] Можно согласиться с оценкой этого события, высказанной известным колумбийским исследователем международных отношений Р. Ривасом. По его мнению, Испания и Колумбия заслужили благодарность человечества, так как они первыми в истории закрепили в договорной форме нормы более гуманного ведения войны. И произошло это задолго до заключения известной женевской Конвенции об улучшении участи раненых и больных (1864 г.) и решений Гаагской мирной конференции относительно законов и обычаев сухопутной войны (1899 г.).[151] Через два дня после подписания документов в небольшом селении Санта-Ана по предложению Морильо состоялась «встреча в верхах». Можно только догадываться о том, что побудило испанского фельдмаршала увидеться с «мятежником» Боливаром. Надеялся ли он понять при личном свидании, что дает его противнику, неоднократно битому на полях сражений, силу возрождаться? Или же он рассчитывал убедить Боливара принять королевскую «милость» и прекратить борьбу в обмен на высокое звание генерала испанской армии с соответствующими привилегиями? А возможно, просто захотелось взглянуть на человека, который, не имея профессиональной военной подготовки, нанес ему, одержавшему немало побед над прославленными наполеоновскими маршалами, чувствительные поражения? Не исключено, что какое-то из этих соображений сыграло свою роль. Боливар принял приглашение Морильо, хотя не все в его штабе одобряли это решение. У Освободителя были свои планы, и их не следовало раскрывать раньше времени. Многое на этой «встрече в верхах» напоминало красочный спектакль. Парадные мундиры бывшего крестьянского сына Морильо и его многочисленной свиты, увешанные звездами и орденами, резко контрастировали со скромной походной формой потомственного аристократа Боливара и сопровождавших его нескольких адъютантов. К тому же Боливар прибыл на встречу верхом на муле и в сомбреро. По кастильскому обычаю недавние смертельные враги заключили друг друга в дружеские объятия. На торжественном обеде произносились пышные тосты, славилась храбрость солдат и офицеров, выполнявших свой долг. Обмениваясь посланиями, Морильо и Боливар неизменно заканчивали их словами: «Пусть Бог многие годы хранит Ваше Превосходительство». Иногда же финальная фраза по традиции испанских кабальеро была иной: «Целую Ваши руки». Но достичь взаимопонимания Морильо и Боливару не удалось, хотя ночь они провели под общей крышей. Один верой и правдой служил своему монарху, для другого жизненной целью являлось освобождение народа от цепей рабства. Камарилья Фердинанда VII не простила Морильо общения на равных с «мятежником» Боливаром, так же как и признания им де-факто независимости Колумбии. Через две недели после заключения перемирия генерал был отозван в Испанию. Правда, вскоре он нашел утешение, вступив в брак с богатой вдовой. Воистину, история — это не только драмы, трагедии и людская кровь. Порой она пишется сквозь смех и слезы. Как остроумно заметил первый советский исследователь жизни Освободителя И. Р. Григулевич, история уже давно бы забыла о Морильо, если бы в его жизни не было такого противника, как Боливар. В патриотическом лагере также нашлись критики условий перемирия и «позорного» поведения Боливара на встрече с Морильо. Они не хотели видеть, что перемирие ускоряло разложение в испанском стане и позволяло патриотам укрепить свое положение. Полковник генерального штаба освободительной армии Л. Перу де Лакруа, сопровождавший Боливара во время его пребывания в Букараманге, сделал запись бесед и высказываний Освободителя, известную как «Дневник Букараманга». Благодаря дневнику можно узнать, в частности, оценку Боливаром перемирия с испанцами. «Никогда в течение моей общественной жизни, — говорил Боливар, — я не прибегал к стольким хитростям, к стольким дипломатическим уловкам, как во время этой важной встречи. Без излишней скромности можно сказать, что мне удалось обставить Морильо… Перемирие с испанцами, заключенное на шесть месяцев…, было для меня только поводом показать миру, что Колумбия ведет переговоры с Испанией на равной основе… Оно помогло мне положить конец истреблению испанцами гражданского населения. Более того, перемирие вынудило Морильо возвратиться в Испанию и оставить командование генералу Латорре, менее способному и активному воину… Пусть глупцы, мои враги, болтают, что им вздумается, об этих переговорах. Результаты говорят в мою пользу. Никогда дипломатическая комедия не была лучше разыграна, чем в тот день и в ту ночь 27 ноября 1820 г. в Санта-Ане».[152] Пять месяцев на земле Колумбии молчали пушки и не лилась кровь. Однако население Маракаибо восстало против испанцев и с помощью отряда генерала Урданеты освободило свой город от колонизаторов. Генерал Латорре обвинил Боливара в нарушении перемирия, и 28 апреля 1821 г. вооруженная борьба между испанцами и патриотами возобновилась повсеместно. Параллельно с переговорами о перемирии Боливар предпринимал активные действия для установления прямых контактов с Мадридом. Он считал, что ключ к миру, если он существует, скорее всего можно найти в столице Испании. Какие мотивы побудили Боливара в разгар ожесточенной войны с Испанией предпринять мирный демарш, имевший, по всей вероятности, минимальные шансы на успех? Был ли этот шаг продиктован политической прозорливостью и гениальной интуицией? Или же он представлял собой дипломатический маневр, построенный на тонком расчете? Скорее последнее. Задача была архитрудной как в политическом отношении, так и с точки зрения дипломатических средств. Испанские войска потерпели серьезные поражения на американской земле, но они не были разгромлены. Необходимо было незаурядное дипломатическое искусство, чтобы убедить Мадрид в бесперспективности дальнейшей вооруженной борьбы с восставшими колониями, истощавшей силы Испании и подрывавшей ее международные позиции в Европе. Однако для начала диалога следовало прежде всего вступить в непосредственный контакт с испанским правительством, а в условиях продолжавшейся войны это было непросто. Боливар не имел дипломатических представителей в Мадриде и не мог прибегнуть к обычному в таких случаях средству — просить какое-либо дружественное правительство представлять в Испании интересы Республики Колумбия. Ни одно иностранное государство официально еще не признало Колумбию. Возможно ли было за столом переговоров получить согласие Испании на заключение мира, что означало для нее потерю своей колониальной империи и как следствие окончательную утрату статуса великой державы, превращение ее во второразрядное государство? Однако Боливар знал, что дипломатию часто называют искусством невозможного, и решил попытать счастья на этом поприще. В конце 1819 года он отдал приказ направить в США и Европу специальную дипломатическую миссию с широкими полномочиями. Ей поручалось производить, при возможности, закупки оружия и боеприпасов, получить в этих целях иностранные займы по своему усмотрению, добиваться дипломатического признания Колумбии и, главное, завязать переговоры о мире с Испанией. Выполнение этих ответственных задач Освободитель возложил на вице-президента республики Колумбия Франсиско Антонио Cea, назначив его чрезвычайным посланником и полномочным министром по защите интересов страны за границей. Такой высокий ранг давал ему право старшинства в отношении других колумбийских дипломатических эмиссаров, находившихся в иностранных государствах. Боливар остановил свой выбор на Cea не случайно. Освободитель считал, что «большую дипломатию» должны делать известные люди. Как и Боливар, Cea знал Европу не по книгам. Он родился в 1770 году в Медельине и многие годы посвятил изучению естественных наук сначала на родине, а затем в Париже. Cea приобрел известность в Европе как натуралист и директор ботанического сада в Мадриде. Позднее он представлял интересы колоний в кадисских кортесах. У него было много влиятельных друзей в Испании, Франции и Англии. В Испанию его в свое время отправили колониальные власти, чтобы избавиться от «опасной личности»: Cea был причастен к публикации в 1794 году запрещенной Декларации прав человека и гражданина и провел три года в тюремных застенках. Когда вспыхнула борьба за независимость на его родине, Cea кружным путем через Лондон добрался до Колумбии, где присоединился к Боливару и прошел с ним большой боевой путь. В 1817 году он стал членом Государственного совета, а затем — вице-президентом республики. Когда потребовалось его родине, Cea без колебаний оставил высокий пост и ступил на дипломатическую стезю. В инструкциях, подписанных Боливаром 24 декабря 1919 г., ему предписывалось добиваться заключения мира с Испанией на основе признания ею независимости Колумбии.[153] Преодолев немало трудностей в пути, Cea в июне 1820 года добрался до Лондона, чтобы находиться ближе к Испании. По своей инициативе и выйдя за рамки полученных инструкций, он разработал фантастический план примирения колоний с «матерью-родиной» путем создания федерации во главе с конституционным монархом Испании Фердинандом VII. В состав федерации наряду с Испанией должны были войти Колумбия, Чили и Ла-Плата.[154] Свой проект Cea направил в Мадрид в ноябре 1820 года через испанского посла в Лондоне герцога Фриаса. Ожидая ответа, дипломатический эмиссар Колумбии добился приема у английского министра иностранных дел лорда Кэстльри и пытался, хотя и безуспешно, убедить его в необходимости оказать поддержку данному проекту. Лондон не склонен был брать на себя посреднические функции. Еще не выветрились горькие воспоминания о первой неудачной посреднической миссии Англии. Фердинанд VII категорически отверг предложения посланца Колумбии. Однако это не обескуражило Cea. Он решил лично отправиться в столицу Испании. Друзья Cea при королевском дворе должны были, по его мнению, оказать ему содействие в заключении почетного мира. Особенно он надеялся на помощь своего близкого друга, влиятельного министра иностранных дел Эусебио де Бардакси-и-Асара, принадлежавшего к либерально-умеренным кругам. Правда, было одно затруднение: Cea не располагал деньгами для поездки. Однако он изыскал простое решение, получив в Лондоне заем в 20 тыс. ф. ст. на весьма кабальных условиях. После этого в мае 1821 года Cea известил Боливара письмом, что он находится на пути в столицу Испании. В Мадриде его ждали дурные вести: пока он добирался до Мадрида, Фердинанд VII провел реорганизацию испанского правительства, отправив Бардакси и других неугодных министров в отставку. Некоторое время Боливар не получал полной информации о демаршах своего дипломатического эмиссара. Когда же ему удалось ознакомиться с планом Cea, Освободитель пришел в ярость. Ради примирения Cea был готов пожертвовать частью завоеванного в тяжелой борьбе суверенитета. «Кажется, гений ошибок руководил всеми шагами нашего посланца», — пришел к заключению Боливар. Попутно он отметил, что Фердинанд VII оказал Cea немалую услугу, отвергнув его план.[155] Ситуация сложилась неординарная, и требовались меры для ее исправления. В январе 1821 года Боливар решил направить в Испанию новую дипломатическую миссию. После заключения соглашения о перемирии он получил международно-правовую основу для прямых сношений с Мадридом. В ст. II соглашения говорилось: «Поскольку первоочередной и главной целью этого перемирия являются переговоры о мире…, оба правительства будут направлять и принимать эмиссаров или доверенных лиц, которых сочтут целесообразным делегировать. Этим посланцам, снабженным верительными грамотами, будут обеспечены гарантии и личная безопасность, соответствующие мирному характеру их миссии».[156] На этот раз защита интересов Колумбии была доверена министру иностранных дел Хосе Рафаэлю Ревенге, опытному дипломату, начавшему свою карьеру еще в дни первой венесуэльской республики, и губернатору провинции Богота Тибурсио Эчеверриа. Они везли личное послание Боливара испанскому королю. Освободитель решительно проводил в жизнь одну из своих главных внешнеполитических заповедей — вести переговоры на основе полного равенства сторон. Боливар призывал Фердинанда VII содействовать заключению мира, который принесет успокоение Испании и самостоятельность Колумбии, сделает ее подлинной второй родиной испанцев.[157] Ревенга и Эчеверриа 24 января 1821 г. получили подробнейшие инструкции Боливара. На 17 страницах излагалось 21 предписание относительно задач миссии и путей их осуществления. Указывалась даже точная сумма выделенных им денег — 8 тыс. золотых песо. Документ подписали Боливар и военный министр Брисеньо-Мендес. Столь тщательная подготовка миссии говорила о серьезности намерений Боливара. Несомненно, он учел также не совсем удачный эксперимент с предоставлением Cea неограниченных полномочий. Главная задача, поставленная перед Ревенгой и Эчеверриа, была сформулирована Боливаром столь точно и категорично, что не оставляла никакого простора для «фантазий» или независимого «творчества». Посланцам Колумбии предписывалось добиваться заключения мирного договора на основе «признания Испанией абсолютной независимости, свободы и суверенитета республики Колумбия и ее полного равенства со всеми другими независимыми и суверенными государствами мира». Такое признание означало «четко зафиксированный отказ со стороны Испании, ее народа и правительства, а также со стороны всех титулованных наследников от прав, претензий собственности и суверенитета в отношении республики Колумбия как целого, так и каждой из составляющих ее частей…, которые ранее образовывали генерал-капитанство Венесуэлу, вице-королевство Новую Гранаду и аудиенсию Кито».[158] В инструкциях указывалось на необходимость отстаивать права Колумбии на Панамский перешеек ввиду его важного стратегического значения. Известно, что Боливара увлекала идея сооружения в будущем межокеанского канала. В случае если на переговорах Испания поставит вопрос о создании федерации метрополии и ее колоний или предложит Колумбии принять в качестве суверена какого-либо бурбонского принца, Ревенга и Эчеверриа должны были безусловно отвергнуть эти проекты. Не забыл Боливар определить и роль Cea в связи с посылкой новой миссии. Согласно инструкциям, ему надлежало оказывать помощь колумбийским посланцам и действовать только совместно с ними. Ревенга и Эчеверриа прибыли в Мадрид раньше Cea и в мае 1821 года получили аудиенцию у министра иностранных дел Бардакси. Однако дальше дело застопорилось. Министр иностранных дел Испании уклонился от переговоров о заключении мира под тем предлогом, что следует дождаться приезда Cea. Возможно, Бардакси предчувствовал свою скорую отставку и не хотел неосторожными действиями ускорить развязку. Он, конечно, хорошо знал настроения Фердинанда VII и дворцовой камарильи. Его руки были связаны в силу еще одного обстоятельства. Кортесы, созванные королем, при участии представителей Мексики занимались в это время изысканием средств спасения испанских интересов в колониях, и Бардакси ждал исхода этих дебатов. Кортесы создали специальную комиссию. Видимо, не без влияния проекта создания федерации Испании и ее колоний эта комиссия выдвинула предложение разделить испанскую Америку на три части. Каждая часть должна была управляться одним из отпрысков бурбонского королевского дома и платить финансовую дань «матери-родине». Получив в свои руки копию документа об этом плане, посланцы Колумбии могли убедиться, что не только Фердинанд VII, но и буржуазные либералы продолжали мыслить категориями испанского колониального величия. К тому же они не могли противостоять королю. Стоило Фердинанду VII выразить свое отрицательное отношение к предложениям кортесов, как они поспешили заявить, что испанское общество не готово к переменам в колониальном вопросе.       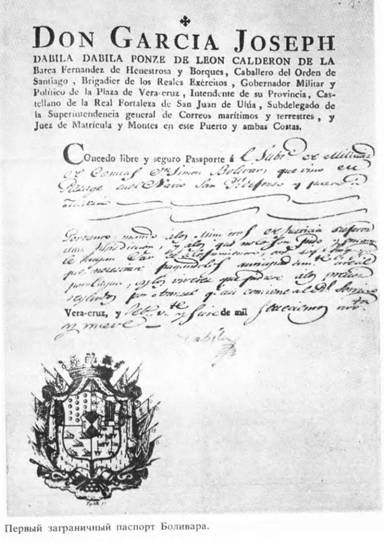   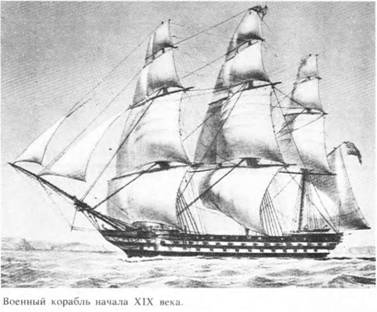  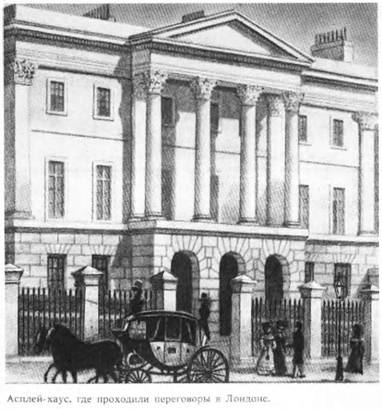     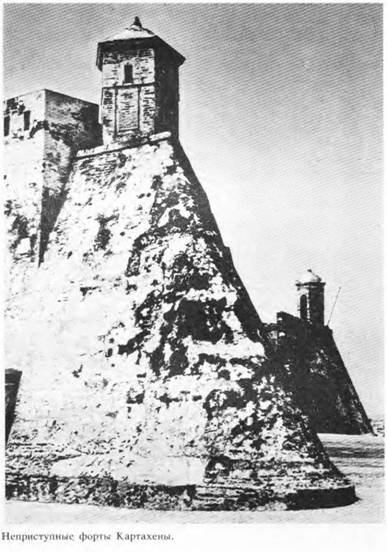   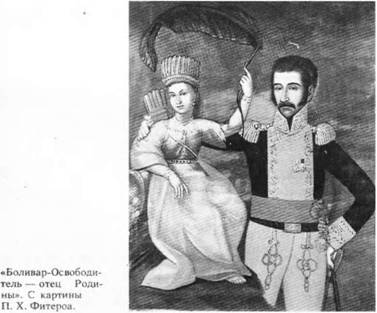  Три месяца миссия Колумбии добивалась в Мадриде начала переговоров о мире. Однако министерство иностранных дел Испании не отвечало на ее ноты и обращения. За это время колумбийским дипломатам не удалось ни разу встретиться с министром иностранных дел в официальной обстановке. Не приносили существенных результатов также их настойчивые попытки воздействовать на испанское правительство через депутатов кортесов, лидера конституционалистов Алкало Галиано и торговые круги Кадиса, несшие большие убытки от разрыва связей с колониями. После того как в Колумбии возобновились военные действия между испанцами и патриотами, положение миссии стало крайне трудным. Местная пресса по указанию испанских властей развернула яростную пропагандистскую кампанию, разжигая в стране шовинистические настроения и обвиняя Боливара в коварстве и преднамеренном нарушении перемирия. Ревенга направил министру иностранных дел ноту протеста. На этот раз ответ последовал незамедлительно. Утром 2 сентября 1821 г. министерство иностранных дел Испании вручило всем трем колумбийским дипломатам паспорта вместе с требованием покинуть Мадрид в течение 24 часов. Так обычно правительства поступали в случаях, когда официально объявлялась война. Ревенга через Францию вернулся в Колумбию, a Cea и Эчеверриа задержались в Париже. Итак, попытки заключить мир с Испанией оказались безрезультатными. Но это не означало, что дипломатия Боливара потерпела поражение. Затраченные усилия не пропали даром. Новое независимое государство — республика Колумбия продемонстрировала свое миролюбие. Такой шаг помогал завоевать на свою сторону либеральное общественное мнение в Европе. Возрос международный авторитет Боливара: известный до этого в Европе как вождь повстанцев, теперь он предстал в облике государственного деятеля, осуществляющего активную внешнюю политику в целях прекращения войны, затрагивавшей так или иначе интересы многих государств. Провал мирных переговоров рассеял иллюзии о возможности примирения с Испанией Фердинанда VII и вызвал консолидацию сил патриотов Колумбии. Они понимали, что только полный военный разгром испанцев на американской земле может расчистить путь к миру. Правильность этого вывода, сделанного патриотами, подтвердили дальнейшие действия Фердинанда VII. Пока буржуазные либералы вели нескончаемые дебаты в кортесах, в Эскуриале, величественно-мрачном замке короля под Мадридом, зрел заговор против испанского народа. Фердинанд VII обратился к своему августейшему собрату — французскому королю Людовику XVIII со слезной мольбой помочь ему удушить испанскую революцию. В 1823 году с санкции «Священного союза» 100-тысячная французская армия оккупировала Испанию. При поддержке иностранных штыков Фердинанду VII удалось восстановить абсолютистские порядки в стране. Анализируя последствия краха буржуазных либералов в Испании, Боливар предсказывал: «Война против нас будет продолжаться с еще большим упорством».[159] Дверь для примирения окончательно захлопнулась. Дипломаты умолкли, в полный голос вновь заговорили пушки. БЕЗУЧАСТНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИВ дискуссиях относительно идейного наследия Симона Боливара, пожалуй, одним из самых острых вопросов является отношение Боливара к США. В обеих частях Америки, как и в других районах мира, публикуются монографии, сборники документов, публицистические работы и биографические очерки, авторы которых обращаются к этой теме в свете новых материалов или же с позиций исторического опыта современной эпохи, что нередко позволяет увидеть скрытое от взора представителей предшествующих поколений. Конечно, за два столетия мир коренным образом изменился. Другими стали США, другой стала и Латинская Америка. Одни противоречия между ними исчезли, обнаружились новые. Не иссякает, однако, интерес к взглядам Боливара, что вполне закономерно. Речь идет о выдающемся деятеле мировой истории первой четверти XIX века — полководце, мыслителе и дипломате, который стоял у истоков отношений между двумя Америками, а эти отношения складывались не просто. Как Боливар расценивал политику США в отношении южных соседей, вынужденных на протяжении полутора десятилетий вести вооруженную борьбу за завоевание национальной независимости? Почему не пришла столь необходимая им помощь с Севера? Какими принципами должны были руководствоваться молодые латиноамериканские государства в своих отношениях с США? Каково было мнение Боливара о государственных и политических институтах североамериканской буржуазной демократии и возможностях их использования при государственном строительстве в специфических условиях Латинской Америки? Аргументированный, научно доказательный ответ на эти вопросы не только представляет сегодня познавательную ценность, но и имеет актуальное значение. Боливар принадлежал к тому поколению людей, идейное формирование которых происходило под сильным влиянием как Великой французской буржуазной революции, так и борьбы североамериканских колоний за свою независимость. Он уже в юности имел возможность знакомиться с программными документами американской революции в переводах или оригиналах, так как владел английским языком. В библиотеке Боливара книги Вольтера и Гумбольдта соседствовали с книгами о Вашингтоне, которого он высоко ценил. Вспоминая о своей юности в беседе с офицером американского флота X. Поулдингом, Боливар рассказывал о том, как «чтение истории американской революции захватило его мысли» и как «личность Джорджа Вашингтона зажгла в груди желание брать с него пример».[160] Обширное эпистолярное наследие Боливара также является свидетельством его глубокого интереса к американской революции и творческого осмысления ее опыта. В многочисленных речах и воззваниях Боливара, в написанных им нотах и других дипломатических документах, в его частной переписке можно встретить самые различные оценки политики США и отношения североамериканских государственных деятелей к их южным соседям — от восторженно-патетических до гневно-осуждающих. При этом Освободитель всегда оставался предельно искренним. Он не имел обыкновения лицемерить, не маневрировал в зависимости от изменений конъюнктуры, не вел двойной игры. Такова историческая правда, и ее не следует «подправлять». Чем же тогда объясняется такая широкая палитра высказываний Боливара в адрес северного соседа? Нет ли здесь вопиющих противоречий? Во-первых, каждая оценка может быть правильно понята только в контексте конкретных исторических обстоятельств. Известно, например, мнение Боливара об американской нации. Народ США, по его словам, «являет собой единственный в своем роде образец политических достоинств и моральных качеств».[161] Однажды он назвал систему государственного устройства США «лучшей в мире».[162] Однако если вчитаться в текст его письма, адресованного О'Лири, то нельзя не заметить, что сделал он это после анализа государственного строя абсолютистских и конституционных монархий в Европе и имел в виду сравнительные, а не абсолютные преимущества США в этом отношении. Во-вторых, важны не отдельно взятые высказывания Боливара, как бы интересно и актуально они ни звучали сегодня, а система его взглядов о роли США и их политике, выстраданных на основе личного опыта государственного деятеля континентального масштаба. В-третьих, — и это, пожалуй, главное — отношение Боливара, как и других лидеров латиноамериканского освободительного движения, к североамериканской буржуазной демократии и политике США не оставалось неизменным на протяжении их жизни. На эволюции их взглядов сказалась сама практика борьбы за независимость, в ходе которой восторженно-романтическое восприятие опыта североамериканской революции сменилось качественно иным видением северного соседа, приобрело остроту и политическую проницательность. Решающую роль при этом сыграл критический анализ позиции США относительно крушения испанской и португальской империй в Америке. На начальном этапе войны за независимость Боливар и другие ее участники были склонны считать, что «великая северная демократия» окажет им действенную помощь в борьбе против Испании. Все временные правительственные хунты, которые пришли к власти после свержения испанского ига, направили своих дипломатических эмиссаров в Вашингтон и Лондон, добиваясь материальной и политической поддержки. По меткому определению венесуэльского историка X. Хиль-Фортоуля, это была «вынужденная дипломатия».[163] Боливар четко объяснил причины многочисленных и настойчивых обращений испано-американских патриотов за помощью к США. «Мы одиноки, — писал он, — мы вынуждены обращаться за помощью к Северу прежде всего потому, что они наши соседи и братья, а также в связи с тем, что у нас нет ни средств, ни возможностей для сношений с другими странами».[164] Следует сказать, что многие американцы горячо сочувствовали патриотам испанской Америки и на свой страх и риск пытались организовать для них закупки обмундирования, боеприпасов и оружия, в которых борцы за независимость испытывали острую нужду. Такое отношение было органичным для американского народа. Оно определялось его душевным складом, его сознанием, лучшими традициями. Однако позиция официального Вашингтона была иной, и дипломатических посланцев испанской Америки ждали горькие разочарования. После начала войны за независимость в испанских колониях Вашингтон не скупился на заявления о «дружественном интересе к провозглашению независимости и суверенитета испанскими провинциями в Америке».[165] При этом правящая элита США внимательно следила за развитием событий в испанских и португальских колониях. Президент США Джеймс Мэдисон в послании Конгрессу в ноябре 1811 года подчеркивал необходимость уделять постоянное внимание переменам, «происходящим на огромных территориях, которые расположены по соседству и занимают южную часть нашего полушария».[166] Дипломатические посланцы испано-американских хунт были неофициально приняты и выслушаны в Вашингтоне. Администрация США откликнулась на предложение завязать отношения с новыми правительствами. Уже 28 июня 1810 г. политический деятель из Южной Калифорнии Джоэл Пойнсетт был назначен специальным эмиссаром США в Южной Америке. Вскоре снабженные верительными грамотами американские эмиссары появились в Каракасе, Боготе, Сантьяго, Буэнос-Айресе и Мехико. Однако дальше этих первых шагов, позволявших США держать руку на пульсе событий, официальный Вашингтон не пошел. Оказание действенной помощи делу свободы и независимости народов Латинской Америки не входило в расчеты правящей элиты США. Белый дом не собирался одарить дипломатическим признанием своих южных соседей и тем более не намеревался вступать с ними в союзнические отношения, которые могли бы ограничить его свободу действий. Такая внешнеполитическая линия США была не случайной. За три десятилетия, прошедшие с момента окончания американской войны за независимость и до начала восстания в испанских колониях, в США многое изменилось. Революционные знамена, под которыми североамериканские колонисты шли в бой против англичан, были помещены в музеи. Их почитали, присягали на верность революционно-демократической идеологии, но в реальной политике правящая элита молилась другим богам. Б среде господствующих классов США широкое распространение получили идеи буржуазного национализма, питавшие, по определению американского историка международных отношений А. Лоуэнталя, «американскую гегемонистскую концепцию — веру этой страны в то обстоятельство, что все Западное полушарие предназначалось быть сферой влияния США».[167] Эта тенденция порождалась своеобразием исторического развития США в рассматриваемую эпоху. Быстрый рост капитализма в стране происходил в условиях активной колонизации Запада и широкого распространения на Юге рабовладельческо-плантационного хозяйства. Владельцы плантаций, чьи интересы в ту эпоху оказывали большое влияние на внешнюю политику США, требовали новых территорий. Для «отцов-основателей» США было характерно представление о Соединенных Штатах как об избранной стране, путь которой направляется провидением. На этом основании, проповедуя изоляционистские идеи неучастия в делах Европы, они одновременно заявляли о своих претензиях на гегемонию в Западном полушарии. Так, Т. Джефферсон писал: «Мы должны рассматривать нашу конфедерацию как очаг, из которого люди будут расселяться во все части Южной и Северной Америки». По его мнению, США должны будут постепенно поглотить испанские колонии «одну за другой». Постоянный соперник Джефферсона и идейный лидер федералистов Александр Гамильтон видел историческую миссию США в том, чтобы потеснить Европу и стать силовым центром мировой политики. «Пусть тринадцать штатов, соединенных в тесный и нерушимый союз, воздвигнут единую великую американскую систему, неподвластную контролю заокеанских сил и влияний, способную диктовать свои условия в отношениях Нового и Старого Света». Очевидно, что для осуществления этого необходимо расширять территорию США в южном направлении. «Мы непременно должны иметь в виду захват Флориды и Луизианы, а также присматриваться к Южной Америке»,[168] — писал Гамильтон в своих памфлетах. Эти идеи были развиты новым поколением американских государственных деятелей в первые десятилетия XIX века и стали конкретной внешнеполитической программой США. Государственный секретарь Дж. К. Адамс одним из первых обосновал идею «божественной предначертанности» гегемонии США в Западном полушарии. Это было сделано им на заседании американского правительства в ноябре 1819 года, где Адамс заявил, что «мир должен освоиться с мыслью считать весь континент Северной Америки в качестве нашего законного владения». Ему придется примириться с тем, что «в результате естественного процесса большая часть соседних с нами испанских владений уже стала нашей».[169] Таким же духом была проникнута и его известная речь, произнесенная 4 июля 1821 г. по случаю годовщины Декларации независимости США. Конгрессмен Г. Клей заслужил лавры самого активного поборника теории «американской системы». «В наших силах создать систему, центром которой мы станем и в которой с нами будет вся Южная Америка»,[170] — говорил он. Поэтому многие историки считают Клея первым глашатаем «панамериканизма».[171] Осуществить эти грандиозные замыслы было нелегко. В то время США уступали по мощи Англии да и другим европейским державам. Однако им удалось в 1795 году добиться от Испании уступки спорного района в Западной Флориде, а в 1803 году осуществить присоединение огромной Луизианы, купив ее у наполеоновской Франции, которой эта территория фактически уже не принадлежала. Вскоре после начала войны за независимость в испанской Америке Соединенные Штаты заняли позицию «строгого нейтралитета», ссылаясь на то, что политику изоляционизма завещал американскому народу первый президент страны Вашингтон в «Прощальном обращении». Прокламация о нейтралитете в военном конфликте между Испанией и ее восставшими колониями была издана президентом Мэдисоном 1 сентября 1815 г. Вслед за этим Конгресс США дважды — 3 марта 1817 г. и 20 апреля 1818 г. — принимал законы, ужесточавшие требования о соблюдении нейтралитета. В частности, американским гражданам запрещалось вступать добровольцами в вооруженные силы иностранных государств или колоний, а также снаряжать корабли, которые могли бы участвовать в военных действиях. Как признают американские историки, «эти меры, несомненно, преследовали цель воспрепятствовать лицам, искренне симпатизировавшим испано-американским патриотам, совершать какие-либо действия против Испании, нарушающие нейтралитет».[172] Известно, что в иностранном легионе, в составе которого под знаменами Боливара сражались представители многих стран, из-за позиции, занятой правительством США, почти не было американских граждан. Президент Дж. Монро в своем ежегодном послании Конгрессу США в 1817 году доказывал беспристрастность американской политики нейтралитета. «Наши порты, — уверял Монро, — остаются открытыми для обеих сторон, и товары нашего земледелия и промышленности могут поставляться как одной, так и другой стороне».[173] У испано-американских патриотов такой подход США вызывал негодование. Они не усматривали беспристрастности в позиции северного соседа и не могли понять, как может единственная в то время буржуазно-демократическая республика, родившаяся в антиколониальной борьбе, ставить на одну доску борцов за независимость и их угнетателей. С учетом неодинакового положения борющихся сторон американский «строгий нейтралитет» был фактически в интересах Испании. Испанцы могли по всей Европе закупать необходимые товары, оружие и боеприпасы. Для патриотов по многим причинам наиболее доступным являлся американский рынок. Власти же США налагали арест на любой груз полувоенного или военного характера, если отдельные частные американские фирмы адресовали подобные грузы патриотам в испанской Америке. Проводя политику изоляционизма, правители США одновременно лелеяли грандиозные замыслы вытеснения европейского влияния в Новом Свете и вели крупную международную игру. Для этого им была нужна полная свобода рук. Не случайно Вашингтон решительно отклонял все предложения Лондона о проведении согласованной англо-американской политики в отношении борющейся испанской Америки. Политика нейтралитета также была важной ставкой в этой крупной международной игре. Белый дом и государственный департамент были не столько принципиальными противниками независимости своих южных соседей, сколько жесткими прагматиками. Поэтому система запретов, связанная с политикой нейтралитета, напоминала скорее сеть с крупными ячеями, чем глухую стену. Испано-американские патриоты знали об этом и, когда могли, обходили выставленные кордоны. Время от времени специальным эмиссарам Боливара удавалось направлять на родину отдельные партии оружия и снаряжать корабли, которые потом в открытом море поднимали флаг корсаров. Однако правительственные каналы получения любой помощи, будь то финансовая, политическая или материальная, были для них напрочь закрыты. При этом нейтралитет и невовлеченность США в дела европейских государств не означали пассивного изоляционизма и отказа от применения силы для утверждения американского влияния. Прикрываясь нейтралитетом, США стремились извлечь максимальную выгоду для себя из грандиозной битвы, развернувшейся в испанской Америке. Правящие круги Соединенных Штатов хотели использовать как преимущества своего географического положения, так и выгоды момента, когда их европейские соперники погрузились в пучину наполеоновских войн. «Американцы рассматривают несчастья Европы в качестве благоприятного обстоятельства для выполнения своих замыслов»,[174] — доносил царю в Петербург русский посол в Париже К. О. Поццо ди Борга. В 1809–1811 годах Вашингтон дважды направлял своих агентов на Кубу, нащупывая пути к аннексии острова. Затем был нанесен удар по испанским владениям во Флориде. Мятеж американских переселенцев против испанской администрации в Батон-Руже в 1810 году дал президенту Мэдисону основание для оккупации территории Западной Флориды. Одновременно США предприняли попытку продвинуться в северном направлении, чтобы овладеть Канадой. Однако война с Англией в 1812–1814 годах не принесла США успеха. После этого южное направление стало доминирующим в их политике. В 1812–1813 годах вооруженные отряды американских рабовладельцев вторглись на территорию Техаса, входившего в состав Мексики, но, потерпев поражение в сражении при Рио-Медине, были вынуждены отступить. Неудачными оказались и первые попытки захвата американскими войсками Восточной Флориды, предпринятые в 1812–1813 годах. Однако это не — обескуражило правительство США, добивавшегося от Испании уступки всей Флориды. Боливар, конечно, был информирован об этих событиях. Он постоянно следил за международной жизнью по английским и французским газетам, часто встречался и беседовал с иностранцами из различных стран. К нему стекались отчеты и доклады дипломатических представителей. Поток информации размывал юношеские представления об американской демократии. На смену им приходило трезвое понимание движущих сил политики США. Эволюция взглядов Боливара находила отражение даже в используемой им терминологии. «Наши северные братья» — так Освободитель часто называл США в первые годы после начала войны за независимость. Позднее на смену пришло официальное «Соединенные Штаты» или же «североамериканцы». Став во главе освободительной борьбы, Боливар непосредственно соприкоснулся с американской дипломатией. Посланцам первой венесуэльской республики, направленным в США, не удалось получить существенную помощь или дипломатическое признание со стороны США. Венесуэльский эмиссар Opea после нескольких встреч с государственным секретарем США Монро и президентом Мэдисоном докладывал в Каракас в мае 1811 года, что американское правительство «считает необходимым придерживаться нейтралитета, для того чтобы развивать торговлю со всеми воюющими сторонами».[175] Правда, в связи с землетрясением 1812 года Конгресс США принял решение послать жителям Каракаса продовольствие, но американская помощь прибыла с большим опозданием и большей частью попала в руки роялистов. После падения первой республики американо-венесуэльские контакты прервались. Монтеверде приказал консульскому агенту США Лоури, а также Скотту, прибывшему с кораблями, груженными пшеницей для каракасцев, в 48 часов покинуть территорию Венесуэлы. Во время пребывания в Новой Гранаде Боливар предпринял шаги для возобновления отношений с северным соседом. По его инициативе президент республики Картахена Родригес Торисес в октябре 1812 года назначил выдающегося венесуэльского патриота М. Паласио-Фахардо дипломатическим представителем в США. Паласио-Фахардо был депутатом конгресса в 1811 году, и его подпись стояла под Декларацией независимости Венесуэлы. До столицы США Паласио-Фахардо добрался в декабре 1812 года. Он приложил немало усилий, чтобы убедить американское правительство оказать помощь испано-американским патриотам, положение которых было отчаянным. Но и ему не удалось пробить стену равнодушия в Вашингтоне. Государственный секретарь Монро и президент Мэдисон остались глухими к его призывам и просьбам. Не помогла поддержка Педро Гуаля, венесуэльского патриота, который бежал в США от преследований и вместе с Паласио-Фахардо вел переговоры. Дело завершилось тем, что 29 декабря 1812 г. Монро вручил им официальную ноту с изложением позиции США. «Соединенные Штаты, — говорилось в ноте, — находясь в мире с Испанией, не могут предпринять какого-либо шага, касающегося конфликта между различными частями испанской монархии, который мог бы скомпрометировать их нейтралитет. В то же самое время следует отметить, что, являясь жителями одного полушария, правительство и народ Соединенных Штатов проявляют живую заинтересованность в процветании и благополучии своих соседей в Южной Америке и будут с радостью воспринимать все содействующее их счастью».[176] Таким образом, Вашингтон не скупился на пожелания процветания и счастья патриотам, отказывая им в оружии и боеприпасах. Привлекает внимание еще одна деталь: государственный департамент не называл испано-американских патриотов «восставшей» или «воюющей стороной», как это допускается международным правом. Следом за Мадридом он именовал их «частью испанской монархии». Это означало только одно: борьба патриотов за независимость являлась всего лишь «семейной ссорой» в испанском доме, их внутренним делом, которое северного соседа никоим образом не касалось. Правители США поразительно быстро забыли, как еще недавно они сами были в положении испано-американских патриотов и как Франция и Испания признали их и оказали помощь. Больше в США делать было нечего, и Паласио-Фахардо с паспортом на чужое имя отправился в Париж, поверив заверениям французского посланника в Вашингтоне Л. Б. Серюрье о сочувственном отношении Наполеона к борьбе испано-американских патриотов и возможности получить его поддержку. Однако миссия в Париж также закончилась крахом. Более того, Паласио-Фахардо оказался за решеткой по обвинению в сношениях с лицами, замешанными в антиправительственном заговоре. Незавидной была в то время участь дипломатов, представлявших борющиеся народы. Правда, гильотины удалось избежать. Французское правительство выдворило Паласио-Фахардо за пределы страны, и он перебрался в Англию. Там, находясь в изгнании, Паласио-Фахардо решил послужить своей стране пером. Он полагал, что страстный и правдивый рассказ о борьбе патриотов поможет торжеству их дела. Задуманная книга будет ударом по Фердинанду VII и его сатрапу Морильо. По приказу последнего, как стало известно Паласио-Фахардо, 26 октября 1816 г. был расстрелян его брат. В написании книги большую помощь оказал ему Андрес Бельо, находившийся в Англии. В 1817 году в Лондоне книга Паласио-Фахардо «Очерк революции в испанской Америке»[177] увидела свет, В том же году она была напечатана в Нью-Йорке и Гамбурге, а затем в Париже. В ней автор поведал и о своих злоключениях в США. Так поневоле он стал первым историком освободительной борьбы народов континента. Боливар высоко оценил его труд. В быстротечные дни второй венесуэльской республики Освободитель вновь пытался завязать отношения с Вашингтоном. В январе 1814 года он принял решение послать в США Хуана Topo. Но обстановка была настолько трудной, что тому не удалось выбраться за пределы Антильских островов. Боливар установил также контакты с Педро Гуалем, находившимся по-прежнему в Вашингтоне. После того как другие дипломатические эмиссары восставших колоний по разным причинам покинули столицу США, Гуаль считал себя представителем всех борющихся народов испанской Америки, хотя и не имел на это формальных полномочий. Его стали называть «дипломатическим эмиссаром без родины». Но и Гуалю, несмотря на обширные связи в деловых и политических кругах США, не удавалось ничего сделать. Вашингтон все больше ужесточал свою позицию. Правительство США втягивалось в борьбу с Испанией за Флориду и не хотело отвлекаться на другие вопросы. Таким образом, действительность показала несбыточность надежд на получение помощи со стороны северного соседа. Горькое прозрение многих руководителей и участников борьбы за независимость испанской Америки вызвало их резкую критику в адрес США, осуждение эгоизма и своекорыстия североамериканской буржуазной демократии, осознание растущей угрозы с Севера. В 1815 году в «Письме с Ямайки» Боливар публично осудил невмешательство США: «Увы, надежды наши оказались тщетными! Не только европейцы, но даже наши северные братья остаются равнодушными созерцателями битвы, которая по сути своей является самой справедливой и по целям самой благородной и важной из всех тех, что происходили в древние и новые времена, ибо можно ли переоценить великую значимость свободы в полушарии Колумба?».[178] Придирчивый знаток истории, возможно, увидит преувеличение в словах о самой важной битве. Но понять Боливара можно: ведь он был пламенным патриотом, а речь шла о судьбах его любимой и многострадальной родины. В последующие годы Освободитель стал называть внешнеполитическую стратегию северного соседа «политикой математически выверенных сделок».[179] Тем самым он подчеркивал сугубо прагматическую направленность этой политики, лишенной солидарных чувств с борцами за торжество свободы и национальной независимости. Заслуживают упоминания свидетельства английского посланника в Колумбии Патрика Кэмпбелла. Он сообщал в Лондон: «Холодность Боливара в отношении правительства и населения Северной Америки объясняется, судя по высказываниям последнего, тем, что они мало сделали для оказания помощи новым государствам в их борьбе за дело независимости и начинали действовать только тогда, когда для их собственных частных интересов открывались выгодные перспективы».[180] Представления Боливара о США складывались не только на основе анализа их внешнеполитического курса. Многое говорил ему конкретный опыт американо-венесуэльских взаимоотношений. Довольно скоро возникли конфликтные ситуации, и их урегулирование потребовало от Боливара немалого дипломатического искусства и выдержки. Первое столкновение интересов произошло в связи с провозглашением так называемой независимой республики Флорида (остров Амелия). В 1816–1817 годах группа испано-американских патриотов, находившихся в США, подготовила и осуществила вооруженную акцию по освобождению испанской колонии на острове Амелия, расположенном напротив северного побережья Флориды. Центральной фигурой этой группы был Педро Гуаль. В нее входили венесуэльцы X. Р. Ревенга и X. Г. Россио, новогранадец М. Торрес, мексиканец М. Сантамария и перуанец В. Пасос. Время было тяжелое. Почти повсеместно в испанской Америке торжествовала роялистская реакция. Находясь в изгнании, эта группа патриотов в середине 1816 года создала организацию, своего рода революционную хунту в эмиграции, разрабатывавшую планы освободительной экспедиции в целях возобновления борьбы против испанских колонизаторов. «Здесь мы делали кое-что на пользу Южной Америке, — сообщал в одном из своих писем Гуаль, — это является единственной и главной целью, объединяющей всех нас».[181] Революционная хунта в изгнании стала центром притяжения для многих участников освободительной борьбы, как испано-американцев, так и иностранцев. С ней установили связи испанец генерал X. Мина, сражавшийся за независимость Мексики, французский корсар, герой обороны Картахены Л. Ори, шотландец Г. Мак-Грегор, сражавшийся вместе с Боливаром в Венесуэле, и др. Готовя на Гаити вторую освободительную экспедицию, Симон Боливар наладил контакт с Гуалем, сообщал ему о своих планах. Он считал Гуаля неофициальным представителем борющейся Венесуэлы и поручил ему готовить почву для развития взаимовыгодной американо-венесуэльской торговли и привлечения американских деловых людей в Венесуэлу. «Приложите усилия для распространения этих идей среди всех лояльных иностранцев»,[182] — писал Боливар из Порт-о-Пренса. Высадившись на венесуэльской земле, Освободитель 5 января 1817 г. назначил Педро Гуаля и генерала Лино де Клементе, находившегося также в Филадельфии, дипломатическими эмиссарами Венесуэлы в США. Согласно инструкциям, они уполномочивались заниматься всеми политическими и торговыми вопросами от имени республики Венесуэла.[183] Действуя в этом качестве, им удалось закупить и направить в освобожденные районы Венесуэлы несколько тысяч ружей и боеприпасы. Кроме того, Клементе активно включился в подготовку освободительной экспедиции, задуманной группой Гуаля. Гуаль использовал дружеские связи с директором патентного бюро в Вашингтоне Торнтоном, муниципальным администратором из Балтимора Скиннером и другими американцами, оказывавшими помощь патриотам в изгнании. Ему удалось собрать необходимые финансовые средства и организовать закупку оружия, амуниции и продовольствия в Нью-Йорке, Филадельфии и Балтиморе. Тем временем Клементе, Мак-Грегор, Россио и Пасос фрахтовали корабль и вербовали участников экспедиции. Решено было атаковать испанские владения во Флориде и овладеть островом Амелия, с тем чтобы превратить его в опорную базу для операций корсаров против испанских кораблей в Мексиканском заливе. Гуаль надеялся также, что удар по суверенитету Испании послужит активизации выступлений патриотов против колонизаторов в Мексике и Южной Америке.[184] 31 марта 1817 г. Клементе в качестве представителя Венесуэлы, Гуаль от имени Новой Гранады и Мексики и М. Томпсон как доверенное лицо Буэнос-Айреса скрепили своими подписями специальный документ (в то время его называли патентом) на имя генерала Мак-Грегора. Ему поручалось осуществить захват испанских территорий Флориды.[185] Понимали ли Гуаль, Клементе и др., что их действия вряд ли были совместимы со статусом дипломатических представителей в иностранном государстве? Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя. Они не имели соответствующих полномочий от правительства Венесуэлы, однако их вдохновляли не меркантильные расчеты, а идеалы борьбы за независимость. К тому же как раз в марте 1817 года Клементе и Гуаль получили, наконец, письменные инструкции Боливара. При их широком толковании подобная инициатива не запрещалась. Да и эпоха тогда была такая, что отчаянно смелые и предприимчивые люди, даже нарушая некоторые предписания своих правительств и действуя на свой страх и риск, добивались успеха. У Гуаля, юриста по профессии, такие операции, наверное, вызывали опасения, но Клементе являлся боевым генералом и, как многие военные, исповедовал девиз Наполеона: нужно прежде всего ввязаться в бой, а там обстановка подскажет. Можно найти и другие объяснения их поведения. Использование корсаров в военных действиях на морях (так называемое каперство) было широко распространенной практикой в конце XVIII — начале XIX века. Это были своего рода волонтеры-наемники, действовавшие на море. Корсары получали от властей страны документальное свидетельство (патент) на ведение боевых операций. В нем удостоверялось, что они не являются пиратами. Весь остальной риск ложился на их плечи. Корсары обычно закупали или фрахтовали в одной из невоюющих стран легкие быстроходные шхуны водоизмещением в 100–200 т, на борту которых можно было разместить до 10 пушек. Команды таких шхун не превышали 100 человек. Выйдя в открытое море, они поднимали флаг страны, выдавшей патент, и начинали охоту за транспортными и торговыми судами противника. В случае удачи им доставалась богатая добыча. Иногда они отваживались атаковать и отдельные военные корабли противника, потрепанные бурей. Все это было хорошо известно Гуалю, Клементе и другим участникам экспедиции, которые прибегли к тактике корсаров. В июне 1817 года корабль с отрядом в 150 человек под командованием шотландца Мак-Грегора взял курс на остров Амелия. Рассеяв немногочисленный испанский гарнизон, им удалось занять Фернандину, главный населенный пункт острова. После этого было провозглашено создание независимой республики Флорида. В августе 1817 года в порт Фернандину прибыл французский корсар Луи Ори, взявший на себя военное командование. Гуаля назначили гражданским губернатором острова. Вскоре Амелия стала играть роль активного центра торговых операций патриотов и опорного пункта корсаров, охотившихся за испанскими кораблями в Мексиканском заливе. При этом обстановка в независимой республике Флорида, судя по некоторым свидетельствам, напоминала нравы казачьей вольницы на Руси — легендарной Запорожской Сечи. Дерзкая операция патриотов вызвала острую негативную реакцию в Вашингтоне, где завершались приготовления к захвату Восточной Флориды. Президент США Монро в ежегодном послании Конгрессу заявил 2 декабря 1817 г. о том, что Амелия превратилась в пристанище пиратов, контрабандистов, преступников и беглых рабов-негров. На этом основании американское правительство решило принять меры для защиты своих интересов. Хотя остров не принадлежал США, на Амелию была направлена американская военная экспедиция. Командор Хенли и майор Бэнкхед предъявили патриотам ультиматум. Они потребовали безоговорочной капитуляции, обещая им в этом случае свободу отъезда. В своем ответе Ори и Гуаль справедливо указали на противоправные действия США, так как остров Амелия «никогда не составлял части территории Соединенных Штатов». Что же касается патриотов, то, овладев Амелией, они «полностью унаследовали все права, принадлежавшие их противнику» (Испании). Ультиматум, говорилось в ответе патриотов, «является недопустимым и неоправданным в глазах всего мира, и если мы вынуждены подчиниться ему, то вся вина ложится на вас».[186] Используя превосходство в военной силе, войска США 23 декабря 1817 г. овладели Фернандиной и установили свой контроль над островом Амелия. В их руки попали все корабли патриотов. Более крупные соединения армии США в это же время начали наступление в Восточной Флориде. Под предлогом борьбы с пиратами и индейцами-семинолами, якобы получавшими помощь с испанских территорий, американские войска в течение трех месяцев заняли всю Восточную Флориду, население которой, по словам президента США Монро, состояло из «авантюристов», «беглых рабов» и «свирепых индейцев». Правительство США в июле 1818 года официально одобрило действия командующего американскими войсками генерала Э. Джексона (президент США в 1829–1833 гг.). Свое решение оно сопроводило заявлением о том, что США не преследуют каких-либо захватнических целей и готовы возвратить оккупированные территории Флориды, как только Испания окажется в силах поддерживать там «порядок и спокойствие». На самом деле США торопились осуществить захват этих территорий раньше, чем там утвердится власть испано-американских патриотов. В Вашингтоне рассчитывали, что операция на острове Амелия не наделает шума. Однако Гуаль и Клементе решили протестовать. Они надеялись привлечь внимание международной общественности и демократических кругов в США к незаконной, насильственной акции американского правительства. По просьбе Гуаля Клементе поручил Пасосу подготовить и представить от имени Венесуэлы официальный протест против действий правительства США. В письме, адресованном Пасосу, Клементе с солдатской прямотой не стеснялся в выражениях по адресу администрации Монро, что позднее стало известно американскому правительству и предопределило его враждебное отношение к дипломатическому эмиссару Венесуэлы. Свою пространную ноту протеста, направленную государственному департаменту США, Пасос подписал: «Уполномоченный независимого правительства Южной Америки в Соединенных Штатах». Показав несостоятельность аргументов Вашингтона, Пасос потребовал от американского правительства денежной компенсации.[187] Выдержки из ноты Пасоса напечатала «Вашингтон сити газет». Протест патриотов поддержала сочувствующая им газета «Нэшнл интеллидженсер». Таким образом, вопрос об Амелии получил огласку, и правительству США пришлось давать объяснения. Государственный секретарь США Адамс ограничился заявлением, что меры, принятые администрацией в отношении острова Амелия, изменены не будут.[188] Этот ответ не удовлетворил патриотов, и Пасос апеллировал к Конгрессу США. В палате депутатов развернулись бурные дебаты. Так называемая «военная партия» поддерживала все действия правительства США по захвату Флориды, а оппозиционные депутаты добивались изменения политики в отношении восставших колоний в испанской Америке. Конгресс США принял решение опубликовать ноту Пасоса в своих изданиях. Президенту Монро пришлось в ряде посланий оправдывать действия администрации. Однако надежды Гуаля и Клементе на то, что веские юридические аргументы и давление американской общественности заставят правительство США отозвать американские войска с острова Амелия, не оправдались. Зато их упорная борьба принесла другие плоды: в Конгрессе США и за его пределами зазвучали голоса в пользу дипломатического признания молодых государств, провозгласивших свою независимость от Испании. Боливар занял сдержанно-осторожную позицию в этом вопросе. В беседе с дипломатическим эмиссаром США в июле 1818 года он уклонился от категорических заявлений по поводу позиции Венесуэлы, сославшись на отсутствие у ее правительства достоверной информации о конфликтной ситуации, связанной с Амелией. Хотя Клементе старался регулярно направлять отчеты о своей деятельности в Ангостуру, они, видимо, редко прибывали по назначению в условиях активных военных действий на море и на суше. В своем сообщении от 19 мая 1818 г. Клементе выражал сожаление, что не смог с надежной оказией переслать всю документацию, касающуюся флоридских дел, и просил Боливара до прибытия этих материалов «не принимать каких-либо решений, так как вопрос деликатный».[189] Не зная сути дела, правительство Венесуэлы, естественно, не могло разрешать или запрещать экспедицию Мак-Грегора или другие акции на Амелии и во Флориде. Кроме того, было еще одно обстоятельство, влиявшее на линию поведения Боливара и его дипломатов в это время. Появились надежды, что схватка за Флориду приведет в конце концов к войне между США и Испанией, а это означало бы изменение всей международной обстановки в Западном полушарии. В июле 1818 года Боливар писал из Ангостуры генералу Арисменди: «Уже появились возможности войны между Соединенными Штатами и Испанией. Такой ход событий в высшей степени благоприятен. Необходимым следствием данной войны и политико-торговых интересов Северной Америки является признание нашей независимости». Через месяц, 20 августа 1818 г., Освободитель возвращается к этому вопросу в письме к полковнику X. Брисеньо. «День Америки наступил, — с присущим ему пафосом восклицает Боливар, — и все, кажется, говорит о скором окончании нашей героической и ужасной борьбы. Вступление Соединенных Штатов в войну уже не вызывает сомнений. Американский генерал Джексон взял штурмом крепость Пенсакола, и вся Восточная и Западная Флорида находятся во власти американцев».[190] Однако надеждам Боливара не суждено было сбыться. Испания уступила Соединенным Штатам Флориду без сопротивления. В феврале 1819 года состоялось подписание американо-испанского Договора о дружбе, урегулировании и границах. Мадриду пришлось согласиться с передачей Соединенным Штатам всей Флориды в обмен на утешительную компенсацию в виде признания испанских прав на спорную территорию в Северной Калифорнии. Позднее возник миф о том, что США купили Флориду у Испании за 5 млн. долл. Однако, согласно договору 1819 года, который устанавливал границу между испанскими и североамериканскими владениями вплоть до берегов Тихого океана, правительство США взяло на себя обязательство уплатить 5 млн. долл., но не Испании и не в качестве компенсации за уступку Флориды, а своим собственным гражданам для возмещения ущерба, причиненного им Испанией.[191] Что же касается оценки деятельности своих дипломатических эмиссаров в США, то Боливар не усмотрел в их поведении каких-либо моментов, заслуживающих осуждения. В декабре 1817 года, то есть накануне оккупации острова Амелия американскими войсками, он официально подтвердил полномочия Гуаля и Клементе представлять интересы Венесуэлы в США.[192] Более того, в связи с военными победами патриотов над испанцами в 1818 году, приближавшими день восстановления республики, Боливар решил повысить уровень венесуэльского дипломатического представительства в США. Подбирая кандидата для направления в Вашингтон в качестве чрезвычайного посланника и полномочного министра Венесуэлы, Освободитель вновь остановил свой выбор на генерале Лино де Клементе. Назначение, состоявшееся в июле 1818 года, нельзя считать капризом Боливара или непродуманным шагом. Подробные инструкции, разработанные для чрезвычайного посланника и полномочного министра, говорят о серьезной подготовке правительством Венесуэлы этой дипломатической миссии.[193] Повторное назначение Клементе явилось, видимо, выражением в своеобразной форме протеста Венесуэлы против действий США во Флориде. Именно так это восприняли и в Вашингтоне. Когда Клементе вновь появился в столице США и запросил аудиенцию для вручения своих верительных грамот, подписанных Боливаром и министром иностранных дел Брисеньо-Мендесом, правительство США фактически объявило венесуэльского дипломата персоной нон грата, В доме, где остановился Клементе, появился чиновник американского внешнеполитического ведомства и задал ему вопрос: является ли он тем самым Клементе, который разрешил снаряжение военной экспедиции на остров Амелия, участвовал в создании там «пиратской республики», а затем назвал преступным решение президента США направить на Амелию американские войска? Получив утвердительный ответ, чиновник заявил: в таком случае государственный секретарь Адамс не сможет иметь какие-либо дела с мистером Клементе.[194] Клементе пришлось выехать из США, не получив даже возможности вручить личное послание Боливара президенту Монро. Второй конфликтный узел в отношениях между Венесуэлой и США завязался в это время вокруг так называемого дела о «Тигре» и «Свободе». Речь шла о двух торговых кораблях, принадлежавших североамериканским коммерсантам Пибоди, Такеру и Коултеру. В погоне за барышами они пытались, игнорируя объявленную Боливаром блокаду побережья Венесуэлы, тайно доставить на шхунах «Тигр» и «Свобода» оружие и амуницию испанским отрядам, противостоявшим патриотам в Гвиане. Эскадра адмирала Бриона перехватила нарушителей. Корабли были арестованы, а весь их груз конфискован как контрабанда. В середине 1818 года в Ангостуру пришло известие из Вашингтона, породившее радужные ожидания среди патриотов. После пятилетнего перерыва Белый дом решил направить своего дипломатического эмиссара во временную столицу борцов за независимость Венесуэлы. Патриоты надеялись, что его приезд ослабит напряженность в американо-венесуэльских отношениях и сдвинет с мертвой точки дело дипломатического признания Венесуэлы правительством США. Боливар писал своему боевому соратнику генералу X. Т. Монагасу: «…к нам должен пожаловать посол Соединенных Штатов, который приезжает для обсуждения вопроса о признании нашей независимости». Велико же было разочарование патриотов, когда они узнали о действительных целях миссии Бэптиса Ирвина, прибывшего в Ангостуру 12 июля 1818 г. Посланец США не имел полномочий для ведения серьезных политических переговоров. Ему была поручена одна задача — потребовать немедленного возвращения конфискованной американской собственности и выплаты компенсации за ущерб, нанесенный нейтральной стороне «незаконными» действиями Венесуэлы, а также представить Боливару в благоприятном свете действия Вашингтона в отношении острова Амелия и во Флориде. Ирвин слыл в США сторонником испано-американских патриотов и, будучи журналистом, выступал в прессе со статьями в их защиту. Однако в Венесуэле он повел себя совсем иначе. Встретившись с отказом Боливара лично принять его, Ирвин начал бомбардировать руководителя борющейся Венесуэлы нотами, составленными в резких, порой даже оскорбительных выражениях. Боливар решительно и с большим достоинством дал отпор попыткам разговаривать с Венесуэлой языком имперского диктата. «Похоже, — писал он в ответе Ирвину, — что Ваше Превосходительство хочет спровоцировать меня на взаимный обмен оскорблениями. Я не встану на такой путь. Но я буду протестовать и не позволю, чтобы права Венесуэлы третировались, а ее правительство унижалось… Когда Венесуэлу подвергают оскорблениям, она готова сражаться со всем миром так же, как она сражается с Испанией».[195] Боливар даже намеревался объявить Ирвина персоной нон грата и выслать его из Венесуэлы, но затем решил не доводить дело до разрыва. Незначительный поначалу инцидент вырос в конфликтную проблему в результате действий дипломатии США, вставшей на путь оказания силового давления на Венесуэлу. Боливар понимал, что принятие требований Соединенных Штатов означало бы создание опасного прецедента, который мог повлечь за собой нескончаемую цепь претензий к Венесуэле со стороны не только США, но и других иностранных государств. Обмен нотами и письмами между Ирвином и Боливаром продолжался с июля по октябрь 1818 года. Освободителю приходилось, готовясь к новой военной кампании, урывать время для затянувшегося спора с дипломатическим эмиссаром США. Боливар уделил большое внимание международно-правовому обоснованию действий Венесуэлы, продемонстрировав широкую эрудицию и убедительную логику. В частности, он умело использовал памфлет американца Коббетта, посвященный закону о нейтралитете. Ирвин апеллировал к принципу нейтральной торговли «свободное судно — свободный груз». Этот принцип обеспечивал неприкосновенность любых товаров на борту нейтральных судов и их право беспрепятственно доставлять эти товары в порты воюющих государств. Правительство США в эпоху наполеоновских войн стремилось внедрить этот принцип в международные отношения, хотя и без особого успеха. В частности, Англия рассматривала вражеские грузы на нейтральных судах как контрабанду и без колебаний захватывала их вместе с кораблями. В ходе обмена письмами с Ирвином Боливар аргументированно доказал, что международно-правовые гарантии в любом случае не распространялись на североамериканские торговые корабли, поскольку они нарушили статус нейтральных судов. «С первых дней января 1817 года и вплоть до августа того же года, — указывал Боливар, — крепости Гайана и Ангостура подвергались осаде. В это время шхуны «Тигр» и «Свобода» пытались доставить оружие и боеприпасы осажденным. В силу этого они перестали быть нейтралами и превратились в участников военных действий. Мы же получили право осуществить их захват любыми средствами, находящимися в нашем распоряжении. В первые дни января была объявлена блокада реки Ориноко, и с этого момента мы начали осуществлять эту блокаду всеми путями, имевшимися у правительства». Из данного конкретного случая Боливар делал выводы общетеоретического характера: «Не являются нейтралами те, кто поставляет оружие и товары военного назначения в осажденные крепости, подвергающиеся законной блокаде». Хотя обстановка диктовала ему быть сдержанным и осторожным, Освободитель открыто осудил помощь США испанским колонизаторам и решительно отклонил их требования как необоснованные. 6 августа 1818 г. он писал Ирвину: «Оказание военной помощи воюющей державе представляет собой явно враждебную акцию по отношению к ее противнику. Этот очевидный факт подтверждается всем поведением самих США. Именно Соединенные Штаты не разрешают, чтобы предоставлялось оружие борцам за независимость в испанской Америке. Именно в Соединенных Штатах задержали, подвергнув аресту, английских офицеров-добровольцев, направлявшихся в Венесуэлу. Именно в Соединенных Штатах конфисковывались оружие и боеприпасы, которые могли бы быть доставлены в Венесуэлу». Вместе с тем Боливар, понимая всю важность добрососедских отношений с США, демонстрировал добрую волю Венесуэлы и ее стремление к урегулированию конфликта на разумных основаниях. Хотя право было на его стороне, он заявил о готовности возвратить конфискованную собственность владельцам при условии признания американской стороной законности действий венесуэльского правительства или же передать спор на третейское разбирательство. Поскольку Ирвин не принял этих предложений, Боливар считал инцидент исчерпанным. Однако иного мнения придерживался Вашингтон. Вернувшись домой ни с чем, Ирвин продолжал выступать против Венесуэлы и Боливара. Государственный секретарь Адамс в своих мемуарах назвал его «фанатичным приверженцем свободы всего человечества, честным малым, хотя и со склонностью к агрессивному поведению».[196] «Приверженец свободы» и «честный малый» в публичных выступлениях крайне недоброжелательно высказывался о Боливаре, называя его «генералом-шарлатаном» и «бессовестным политиканом».[197] В таком же духе был написан его отчет о пребывании в Венесуэле, представленный правительству США. Реакция Вашингтона не заставила себя ждать. 26 июля 1819 г. на рейде Ангостуры появился американский военный корабль с командором Оливером Перри на борту в роли нового дипломатического посланца США. Инструкции ему собственноручно написал государственный секретарь Адамс. Известный испанский историк С. Мадариага в своей книге о Боливаре предал гласности два неопубликованных ранее дипломатических донесения. Из них можно заключить, что Перри поручалось не только решительно потребовать «сатисфакции», но и прощупать почву относительно возможности получения США какого-либо опорного пункта в этом районе. Предположительно имелся в виду остров Маргарита.[198] Вице-президент Венесуэлы Cea в отсутствие Боливара, руководившего военной кампанией по освобождению Новой Гранады, не выдержал американского давления и согласился полностью выплатить требуемую компенсацию. Боливар усмотрел в капитуляции вице-президента унизительное признание слабости Венесуэлы. Как политик-реалист, он мирился с неизбежным, но его душа патриота скорбела и негодовала. Полгода спустя он писал с горечью: «В течение десяти лет невообразимых усилий и борьбы, в течение десятилетия страданий, почти превосходящих человеческие силы, наши братья на Севере спокойно наблюдают, как нас уничтожают».[199] Какие бы бури справедливого возмущения ни бушевали в душе Боливара, он был реалистом и понимал, что Венесуэле необходимо пробить брешь в стене непризнания. По трезвому размышлению, добиться этого можно было скорее на республиканском Севере, чем в монархической Европе. Поэтому следовало терпеливо налаживать отношения с правительством США и настойчиво работать в нужном направлении. Видимо, такие соображения определили решение Боливара назначить в августе 1819 года преемником генерала Клементе на посту дипломатического представителя Венесуэлы в Вашингтоне престарелого испанского аристократа Мануэля Торреса, жившего в США уже более четверти века. Много лет назад Торрес служил в колониальной администрации в Новой Гранаде, но попал под подозрение из-за своих демократических убеждений и бежал в США. Он прекрасно знал политическую «кухню» Вашингтона, имел влиятельных друзей в различных слоях американского общества и после 1810 года неоднократно оказывал испано-американским патриотам ценные услуги. В частности, Торрес опубликовал в США две книги, в которых он информировал американцев о событиях в испанской Америке и убеждал их в необходимости признать независимость борющихся колоний. Несмотря на преклонный возраст и одолевавшие его болезни, Торрес принял предложение Боливара представлять интересы Венесуэлы в Вашингтоне. Новый эмиссар Венесуэлы умел терпеливо искать подходы к государственному департаменту и Белому дому. Торресу первому из дипломатических представителей испанской Америки удалось добиться официального признания своего статуса правительством США. Он успешно вел переговоры о закупке 30 тыс. ружей и о получении займа для финансирования этой сделки. Но по главному вопросу — о дипломатическом признании государственный секретарь Адаме и президент Монро по-прежнему хранили молчание. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ВЕЛИКАЯ КОЛУМБИЯ Решения конгресса в Ангостуре в 1819 году, по существу, носили декларативный характер и представляли собой программу действий на будущее. Значительная часть территории Колумбии все еще находилась во власти испанских колонизаторов. Вскоре армия патриотов перешла в наступление. На этом этапе со всей полнотой проявился талант Боливара как политического руководителя антиколониального движения и полководца армий нового типа, созданных народом и опиравшихся на его поддержку. Не будучи профессиональным военным, Боливар овладевал сложной наукой побеждать на полях сражений. Его стратегия была проникнута наступательным духом, стремлением сохранять инициативу, наносить противнику неожиданные удары в невыгодных для него условиях, последовательно развивать достигнутый успех. Воодушевляемые примером своего полководца, офицеры и солдаты освободительной армии проявляли чудеса военного искусства, смелости и героизма. Они стремительным марш-броском преодолели труднодоступные льянос, дважды совершили труднейшие переходы через заснеженные хребты Анд, нанесли сокрушительные поражения войскам генерала Морильо на реке Бояка и в долине Карабобо, освободили сначала Боготу, а позднее Каракас. Каждая одержанная победа преумножала силы патриотов и славу их полководца. Население Боготы восторженно приветствовало героическую армию патриотов и торжественно провозгласило Боливара «Освободителем» Новой Гранады. Собравшаяся в этом городе ассамблея Новой Гранады утвердила решения конгресса в Ангостуре. Таким образом, в ходе войны за независимость в этом регионе испанской Америки произошел решающий перелом. Десятилетие вооруженной борьбы преобразило сознание людей, и мистический страх перед сувереном и силой испанского оружия сменился уверенностью в превосходстве национальной военной силы. Декреты Боливара о социальных реформах начали, наконец, приносить плоды. Народные массы поддерживали армию патриотов, вливались в ее ряды, восполняли потери, питали ее жизненными силами. Эти перемены уловил генерал Морильо. Он докладывал в Мадрид: «Уже больше не существует той Венесуэлы, которой не хватало сил, необходимых для поддержания своей территориальной целостности».[200] Победы способствовали новому самосознанию армии и населения. История Венесуэлы и Новой Гранады стала восприниматься ими не как цепь непрерывных страданий и унижений раба-негра и индейца-крестьянина, а как история национальной славы, возрождения былого величия американских народов. Если на начальном этапе борьбы за независимость еще действовали старые представления и колониальные нормы мышления, то теперь национальные и общечеловеческие ценности — свобода, равноправие, человеческое достоинство — стали основой нового миропонимания. Это в значительной мере определило не только военную, но и политическую победу патриотов во главе с Боливаром. Логика событий выдвинула его на авансцену освободительной борьбы, наполнила реальным содержанием ранее имевший только символическое значение титул Боливара, присвоенный ему группой соратников на Гаити: «Верховный руководитель республики, генерал-капитан армий Венесуэлы и Новой Гранады». Именно этим титулом от подписывал издаваемые декреты, прокламации, обращения к народу. К середине 1821 года почти вся территория республики Колумбия была освобождена от испанских войск. В их руках оставались лишь несколько крепостей и часть территории аудиенсии Кито. Ликвидация этих последних очагов колониального господства являлась делом времени. Республика Колумбия, провозглашенная в Ангостуре, стала политической реальностью. Но это не означало завершения борьбы. Только окончательное изгнание испанцев с территории всей Южной Америки гарантировало независимость ее народов. Решение этой задачи требовало консолидации освободительных сил, новых подходов к вопросам государственного устройства. 6 мая 1821 г. в городе Кукуте на границе Венесуэлы и Новой Гранады под председательством старейшины новогранадских патриотов А. Нариньо, вернувшегося после многолетнего заключения в испанской тюрьме, начал свои заседания Учредительный конгресс Колумбии. Боливар и его сторонники добивались создания сильного централизованного государства. Им противостояли федералисты, отражавшие интересы крупных землевладельцев, стремившихся сохранить в неприкосновенности свое влияние на местах и привилегии. В конечном счете после острой борьбы дело закончилось вынужденным компромиссом по ряду вопросов, что отразилось в Основном законе, утвержденном 30 августа 1821 г. Принятая Конституция провозгласила полную и безусловную независимость страны от Испании и установила на основе принципов унитаризма строгую централизацию власти. Территория республики делилась на департаменты, которые подразделялись на провинции, а последние — на кантоны. Вся полнота законодательной власти вручалась двухпалатному конгрессу, а исполнительной — президенту. Судебная система была независимой и осуществляла контрольные функции. Государственный совет при президенте в составе вице-президента, одного члена Верховного суда и пяти министров выполнял функции правительства. Статьи Конституции, декларировавшие основные буржуазные свободы и гражданские права, несли на себе печать компромисса между радикальным крылом сторонников независимости и консервативными силами. Провозглашенное равноправие всех граждан на деле не обеспечивалось. Вводилась система многоступенчатых выборов, устанавливались образовательный и имущественный цензы и другие ограничения. По словам Умберто Техеры, «мантуанцы изобрели нужную им правовую формулу для того, чтобы посмеяться над Монтескье, Петионом и Боливаром. Юридически рабы получали освобождение, но они продолжали оставаться в цепях до того момента, когда правительство Колумбии изыщет средства для выплаты компенсации их хозяевам».[201] Таких средств у правительства, конечно, не было. Конституция 1821 года утвердила официальное название нового государства — «Республика Колумбия». В ее состав вошли территории современных Венесуэлы, Колумбии, Панамы и Эквадора. Их общая площадь составляла 2,4 млн. кв. км, а население — 3,5 млн. человек. Для того времени это было крупное государство, и скоро в политической жизни за ним утвердилось название «Великая Колумбия». Президентом Колубии Учредительный конгресс избрал Боливара, а вице-президентом — наиболее известного участника освободительной войны в Новой Гранаде Франсиско де Паула Сантандера. Конгресс в Кукуте подвел итог многолетней борьбы народов северной части Южноамериканского континента за национальное освобождение. Это был также важнейший рубеж в жизни и деятельности Боливара. В предшествующий период он опирался главным образом на свой морально-политический авторитет, завоеванный в сражениях. Теперь же Освободитель стал законно избранным президентом крупного независимого государства, облеченным широкими полномочиями. Его авторитет во внешнем мире и его возможности влиять на ход событий неизмеримо возросли. Каким был облик этого государственного деятеля? Как опыт пройденного пути обогатил и огранил его природные дарования и таланты? Какие неповторимые черты личности Боливара выдвинули его в общепризнанные лидеры? Вопросы эти отнюдь не праздные. В извечном споре, кто кого находит — история личность или личность историю, нет однозначного ответа. Боливару довелось жить в один из переломных моментов человеческой истории, в эпоху великих революционных потрясений и перемен. Именно революционные процессы обновления мира выдвигают на авансцену истории прирожденных лидеров, формируют подлинных руководителей народных масс, которые вовлекаются в социальное творчество. Однако движение вперед по пути прогресса, к выстраданному народными массами идеалу не происходит по прямой и не исключает альтернатив. Многовариантность истории состоит в том, что в ней заложены разные возможности, и именно здесь завязывается сложная диалектическая взаимосвязь между личностью и объективным ходом истории, качества лидеров, их политический и нравственный облик, личные интересы и притязания начинают играть немаловажную роль. Не только каждая эпоха формирует своих лидеров. В конкретные периоды огромный отпечаток на процесс перемен накладывает и крупная историческая личность. Политический деятель, особенно руководитель страны, не только выступает как орудие истории, но и творчески воздействует на исторические события и судьбы народов. Боливар принадлежал к числу таких деятелей. «Лидерам англо-американской и французской революций надо было думать, как руководить народами, а здесь народы надо было создавать»,[202] — говорил учитель Боливара Симон Родригес. Боливар ясно видел справедливый характер освободительной войны и стремился к тому, чтобы борьба против испанского ига приняла всенародный характер. «Солдаты! — говорил Боливар. — Пусть же ваши ружья несут не только штыки, но и законы свободы, и вы будете непобедимы!»[203] Во имя достижения победы и мобилизации народных сил он широко использовал политические и социально-экономические факторы. Им были изданы декреты о конфискации собственности у сторонников испанской короны и распределении ее между солдатами и офицерами освободительной армии, об отмене подушного налога с индейцев и передаче в их личную собственность общинных земель, о защите гражданских прав индейцев и др. Под знамена Освободителя стекались городские низы, крестьяне, пастухи, бывшие рабы. В освободительной армии царил дух интернационального сотрудничества. Плечом к плечу сражались креолы, мулаты, метисы, индейцы, негры и несколько тысяч добровольцев из многих стран мира. На труднейшем этапе национального формирования Боливар возглавил свой народ и привел его к победе. Он отчетливо осознавал источник своей силы. «Моя вера в народ в десять тысяч раз сильнее доверия к его депутатам, — говорил Боливар. — Суверенная воля народа является единственной законной основой государственной власти».[204] При этом он не идеализировал народные массы и не раз с горечью говорил об их забитости, пассивности, безрассудной вере, способности поддаваться влиянию демагогов. Свой успех Боливар разделял с плеядой выдающихся полководцев, партизанских вожаков, государственных деятелей, дипломатов. Этих людей замечательного ума, таланта и преданности идеалам свободы, выдвинутых восставшим народом, объединил вокруг Боливара общий путь к высокой цели. Сукре, Сантандер, Паэс, Арисменди, Cea, Брисеньо-Мендес, Гуаль — каждый из этих сподвижников и соратников Боливара был по-своему талантлив, в чем-то равен ему, а возможно, и превосходил его. Выделяли же Освободителя из этой когорты выдающихся деятелей многогранность его натуры, способность связывать вопросы экономики, военных операций, государственного строительства и международной деятельности в единую стратегическую программу достижения независимости. Он был способен мысленным взором охватить весь континент и даже весь мир. Только человек, поглощенный титаническими задачами борьбы за независимость, мог написать такое сочинение, как «Мое видение на вершине Чимборасо» (1822 г.) — философскую поэму в прозе, выражающую космическое видение прошлого и грядущего, поэму о своеобразии, самобытности и исторической роли «нашей Америки», как любил выражаться Боливар, в масштабах «всей Вселенной» и своей собственной миссии в обретении ею свободы. В начале 20-х годов XIX в. имя Боливара стало известно не только во всей испанской Америке, но и далеко за ее пределами. В США и Европе политики, публицисты, историки часто сравнивали Боливара как полководца с Наполеоном, а как государственного деятеля — с Вашингтоном. Его слава притягивала как магнит, и сотни людей стремились с ним встретиться, узнать его суждения и взгляды. В оставленных ими мемуарах запечатлен облик живого Боливара. Президентом Великой Колумбии Боливар стал, когда ему исполнилось 38 лет и он находился в расцвете творческих сил. Однако его путь к вершинам власти и славы был тернистым. Превратности судьбы не обошли его стороной. В бурное десятилетие, оставшееся позади, Боливар многое познал: взлеты и падения, испытания жестокостью и смертельным риском, потерю близких людей и соратников, торжество побед и горечь поражений, верную дружбу и предательство, зависть, вражду. Все это оставило свой след: по свидетельству многих, он выглядел старше своего возраста. Но Боливар неистово верил в справедливый характер своей миссии, и это помогало ему преодолевать все невзгоды и трудности. Внешний облик Освободителя контрастировал с теми грандиозными задачами, которые ему выпало решать: ниже среднего роста, тонкая, на первый взгляд хрупкая фигура, несколько непропорционально большая голова и изящные руки и ноги. Лицо слегка вытянутое, овальной формы. Высокий лоб и глубоко посаженные глаза. Щеки обрамляли густые бакенбарды. Однако внешность его была обманчива. Боливар отличался огромной энергией, обладал поразительной работоспособностью. Он мог выдерживать кажущиеся непосильными физические нагрузки. В труднейших переходах через венесуэльские льянос и заснеженные вершины Анд Освободитель своим примером вдохновлял солдат и офицеров. Он шел вместе с войсками как рядовой боец, нес свое оружие и боеприпасы. Неделями и месяцами он мог находиться в седле и верхом был способен за день преодолеть расстояние, вызывавшее удивление даже бывалых кавалеристов. Но так же легко Боливар мог после многодневного похода или полных забот мирных дней провести всю ночь на балу, без устали кружась в вихре танца. Как многим выдающимся людям, ему хватало нескольких часов сна, чтобы восстановить силы и энергию. Уже при жизни наиболее восторженные сторонники Боливара стали называть его гениальным человеком. Их можно понять он был действительно необычайно и разносторонне одарен. Не многие из знаменитых полководцев и государственных деятелей той эпохи — а она была отмечена появлением целого созвездия выдающихся людей — смогли так ярко проявить себя в столь различных сферах, как Боливар. Военное искусство, законодательство, административное дело, дипломатия, философское осмысление мира, изящная словесность, образование — во всех этих областях им оставлен свой яркий след. Современники поражались его феноменальной памяти и обширным знаниям. Он мог целыми страницами на память цитировать любимых авторов. Политические манифесты, воззвания и письма, написанные им, отличаются великолепием литературного стиля, богатством исторических параллелей и примеров. Боливар, как и Наполеон, знал свою армию «в лицо». После блестящей победы на реке Бойяка в 1819 году он устроил смотр войскам и поздравлял всех ветеранов, сражавшихся вместе с ним с 1813 года, обращаясь к каждому из них по имени. Освободитель осознавал магическую силу слова и умело пользовался ораторским искусством. Его пламенным речам внимали, затаив дыхание, и депутаты конгресса, и простые солдаты, своим словом он умел увлечь за собой массы. По свидетельству очевидцев, его личность обладала немалым магнетизмом, который К. Роджерс определил как «способность проникать в психологический мир других людей и общаться с ними на этом уровне в той степени, какую позволяют словесные и другие контакты».[205] Большое значение Боливар придавал также печатному слову. Он основал газету «Коррео де Ориноко», ставшую впоследствии официозом правительства и трибуной патриотов. Зависть, злопамятство и мстительность были полностью чужды Боливару. Его снисхождение к повергнутым врагам вызывало критику даже со стороны друзей. Только суровая политическая необходимость могла заставить Боливара отдать приказ о расстреле Пиара, партизанского вожака, создавшего своим поведением угрозу единству освободительных сил в критических обстоятельствах 1817 года. Оставив за порогом дома груз государственных забот, Боливар становился общителен, весел, остроумен, любил подтрунивать над друзьями. Лично знавший Освободителя генерал А. Кодасси напишет в своих мемуарах: «Он поклонялся прекрасному полу и любил развлечения, но все это отступало на второй план перед зовом воинского долга и интересами родины».[206] Боливар умел бурно и непосредственно радоваться своим и чужим успехам. Весть о решающей победе генерала Сукре над испанцами застала его в помещении штаба. Сорвав свой генеральский мундир и подбросив его к потолку с возгласом «Ура!», Боливар пустился в пляс. Древние говорили: «Судьба человека — это нрав его». В рассуждениях о личности Боливара не уйти от того, что он был сыном земли, его породившей. В нем нашли проявление доминирующие черты национального характера, являвшего собой сплав многих культур и рас. «Страсть Боливара рождена нашей жаждой отмщения, его язык был языком нашей природы, достигнутые им вершины — вершинами нашего континента»[207] — таким виделся Освободитель кубинскому поэту и революционеру Хосе Марта. Отсюда — неповторимые особенности его духовного мира и характера. В нем причудливо сочетались трезвость с романтическими порывами, выдержка — со склонностью к театральной аффектации, могучий интеллект — с буйством фантазии и интуиции. «Страстные желания, постоянство и пылкость воображения — вот что двигало мной по избранному пути и не позволяло изменить ему»,[208] — говорил Боливар. И как часто случается, недостатки Боливара были продолжением его достоинств, но выплеснувшихся из берегов общепринятых мерок. Порой увлеченность своими идеями приводила Боливара к потере непосредственного контакта с действительностью, что порождало ошибочные шаги и действия, безоглядная вера в человека оборачивалась просчетами в оценке ненадежных друзей и возможных политических противников. С годами, когда физические силы Боливара начали слабеть, груз просчетов и ошибок становился заметнее. Порывы души Боливара, художника слова и действия, были чужды молодой буржуазии, взявшей верх в Западной Европе и США. Она исповедовала бентамовский рационализм, и для нее романтический пафос жизни и деятельности Освободителя казался чрезмерным. Для местных консервативных кругов он представлялся даже опасным. Не с их ли голоса некоторые исследователи жизни Боливара стали характеризовать его недостатки собирательным термином «донкихотство», имея в виду героически-безоглядное и поэтому непонятное для «черни» в пушкинском понимании этого слова бескорыстное служение общечеловеческим идеалам? Поток мнений о Боливаре так же неисчерпаем, как и богатство его натуры. Уже при жизни в народе о нем начали слагаться легенды. Создание республики Великая Колумбия открыло новые горизонты для созидательной деятельности Боливара, укрепило его международный авторитет. Отныне он получил возможность выступать на международной арене в качестве облеченного широкими полномочиями законного главы независимого государства. На основании Конституции Колумбии 1821 года президент представлял страну в международных делах и был наделен, согласно ст. 119, правом объявлять войну с санкции конгресса. В соответствии со ст. 120 Конституции он уполномочивался «заключать договоры о мире, союзе, дружбе, перемирии, торговле, нейтралитете и любом другом вопросе с иностранными монархами, государствами или народами».[209] Статья 121 предоставляла президенту право назначать с согласия конгресса посланников и других дипломатических представителей. Боливар много внимания уделял руководству внешнеполитической деятельностью. Ему принадлежало последнее слово при принятии всех принципиальных решений в этой области. Он стремился получать наиболее полную информацию о международной жизни. По его указанию колумбийские представители за рубежом оформляли для него подписку на наиболее важные иностранные газеты, издававшиеся на английском и французском языках. Боливар регулярно читал донесения дипломатов и нередко собственноручно готовил для них указания и ответы. Однако война против Испании продолжалась, и она требовала его постоянного присутствия на театре военных действий. Согласно Конституции, президент являлся одновременно главнокомандующим вооруженными силами республики. В этих условиях очень большая ответственность ложилась на министра иностранных дел, тем более что вице-президент Сантандер не проявлял большого интереса к внешнеполитическим вопросам. Боливар назначил на этот пост Педро Гуаля. Такое решение было обоснованным — еще Миранда усмотрел в молодом Гуале природные способности для занятий международными делами. К тому же Боливар был уверен в преданности Гуаля их общему делу. Семейство Гуалей было известно в Венесуэле. Дядя и отец Педро Гуаля принимали активное участие в подготовке антииспанского выступления в 1797 году и подверглись преследованиям. В молодости Педро увлекался сочинениями Руссо, Вольтера, Расина, Локка. После окончания Каракасского университета Гуаль связал свою жизнь с борцами за независимость. Вместе с отцом он участвовал в пропаганде идей Миранды, а когда предтеча вернулся на родину, стал его доверенным секретарем. Судьба свела Гуаля с Боливаром в стенах Патриотического общества, где они вместе со своими единомышленниками представляли наиболее радикальное крыло этой организации. В качестве уже известного юриста он участвовал в составлении текста Декларации независимости Венесуэлы. Последующая жизнь Гуаля связана с борьбой за независимость в Картахене. Именно Гуалю правительство Картахены доверило лично вручить Боливару декрет о присвоении тому звания почетного гражданина Картахены и провести переговоры относительно возможности создания конфедерации Венесуэлы и Картахены. Гуаль возглавил министерство иностранных дел Великой Колумбии, имея за плечами, пожалуй, самый богатый из всех патриотов опыт дипломатической работы. Около шести лет ему довелось провести в США, представляя сначала интересы Картахены, а затем действуя как «дипломатический эмиссар без родины». Он в совершенстве знал английский и французский, обладал большими познаниями в юриспруденции и философии. По признанию Сантандера, «Бог наградил его умом, предназначенным для дипломатических переговоров». В министерстве иностранных дел он пользовался непререкаемым авторитетом. Одно из первых мероприятий Гуаля — законодательное оформление дипломатической службы. По его рекомендации было утверждено положение о рангах и материальном обеспечении дипломатов. До наших дней сохранился один из портретов Гуаля периода 20-х годов. С полотна смотрит суровое, неулыбчивое лицо со строгим, несколько тяжеловатым взглядом глубоко запавших черных глаз. «Философ-стоик» — так отозвался о нем один из его биографов. Гуаль вошел в мир большой политики, когда на международной арене выступали такие столпы дипломатии той эпохи, как Адамс, Монро, Кэстльри, Каннинг, Меттерних, Шатобриан, Виллель, Татищев и Нессельроде. И надо сказать, что министр иностранных дел Великой Колумбии не уступал им, хотя и не был столь известен. В лице Гуаля Боливар нашел единомышленника и талантливого зодчего своих внешнеполитических идей и концепций. Историки потом назовут 20-е годы «золотой эпохой» колумбийской дипломатии. В этот период Богота играла роль главного центра международных отношений испанской Америки. Столица Великой Колумбии генерировала импульсы, во многом определявшие обстановку в регионе. Война за независимость вступала в завершающий этап, и внешнеполитические вопросы выходили на первый план. От их успешного решения во многом зависели как достижение окончательной победы, так и закрепление ее результатов в международном плане. В жизни и деятельности Освободителя наступал звездный час. Примечания:1 Неруда П. Слово к советскому читателю//Лаврецкий И. Симон Боливар. — М., 1958. — С. 4. 2 См. Bolivar у Europa en las cronicas, el pensamiento politico y la historiografia. — Vol. I. — Siglo XIX. — Caracas, 1986 (далее — Bolivar y Europa…); Rojas A. Bolivar diplomatico. — Caracas, 1983. 14 Цит. по Pino Iturriete Е. A. La mentalidad venezolana de la emancipacion. — Caracas, 1971. — P. 73. 15 2 olivar y Europa… — P. 298. В Венесуэле и в других испанских колониях борцов за независимость называли патриотами, так как они ставили интересы родной земли выше интересов испанской короны. В отличие от роялистов, сохранявших верность монарху Испании. По традиции и современные историки нередко используют этот термин. 16 Lecuna V. Catalogo… — Т. 1. — Р. 204–205. 17 Боливар С. Избранные произведения. 1812–1830. — М»1983. — С. 124. 18 Bolivar S. — Vol. I. — P. 881. 19 Ibid. — Vol. II. — P. 83. 20 См. Archivo historico diplomatico mexicano. — Mexico. — N 21. — 1927. — P. 8. 144 Боливар С. Указ. соч. — С. 76. 145 Bolivar S. — Vol. I. — Р. 292. 146 Idid. — Vol. III. — Р. 673–674. 147 См. Rivas R. Op. cit. — P. 59. 148 Цит. no Guasch J. Op. cit. — P. 150. 149 Bolivar S. — Vol. I. — P. 476. 150 Mler J. M. de. La Gran Colombia. El Libertador y algunos misiones diplomaticas. — Vol. 6. — Bogota, 1983. — 1961–1965. 151 См. Rivas R. Op. cit. — P. 64. 152 Peru de Lacrolx L. Op. cit. — Р. 110–111. 153 См. Mler J. M. de. Op. cit. — Vol. 6. — P. 1941–1946; Bolivar y Europa… — P. 1056. 154 См. Restrepo J. M. (Ed.) Op. cit. — Т. I. — P. 424–436. 155 См. Rojas A. Op. cit. — P. 46. 156 Mler J. M. de Op. cit. — Vol. 6. — P. 1964. 157 См. Bolivar S. — Vol. I. — P. 526–527. 158 Mler J. M. de. Op. cit. — Vol. 6. — P. 1974. 159 Bolivar S. — Vol. I. — P. 883. 160 Цит. по Garcia Arieche G. Op. cit. — P. 10. 161 Bolivar S. — Vol. III. — P. 680. 162 Ibid. — P. 315. 163 См. Gu Fortoul J. Op. cit. — Vol. I. — P. 546. 164 Bolivar S. — Vol. I. — P. 329. 165 The Hispanic American Historlcal Revlew. — Vol. I. — 1918. — Aug. — № 3. — P. 242. 166 Rlchardson J. D. (Ed.) Messages and Papers of the Presidents (1789–1897). — Vol. I. — Wash., 1896. — P. 494. 167 Forelgn Affairs. — Vol. 55. — 1976. — No I. — Oct. — P. 201. 168 Цит. по Печатное В. О. Гамильтон и Джефферсон. — М., 1984. — С. 203 259. 169 Adams J, Q. Memoirs. — Vol. IV. — Wash., 1874, — Р. 438–439. 170 The Papera of Henry Clay. — Vol. 2. — Lexington (Kentucky), 1961.- P. 856. 171 См., например, Moore S. B. Henry Clay and Pan-Americanism//Colom- bia University Quarterly. — 1915. — Sept. 172 The Hispanic American Historical Review. — Vol. 1. — 1818. — Aug. — № 3. — P. 244. 173 Richardson J. D. (Ed.) Op. cit. — Vol. 2. — Wash., 1900. — P. 13. 174 Сборник Русского исторического общества. — Т. 112. — СПб., 1901. — С. 60–61. 175 Цит. по Parra Perez С. Op. cit. — Vol. И. — Р. 216. 176 Manning W. R. (Ed.) Op. cit. — Vol. 1. — P. 16. 177 См. Palacios Fajardo M. Outline of the Revolution in Spanish America. — L., 1817. 178 Боливар С. Указ. соч. — С. 53. 179 Bolivar S. — Vol. I. — Р. 429. 180 Цит. по Para Perez С. La Monarquia en la Gran Colombia. — Madrid, 1957. — P. 317. 181 Цит. по Bierck Harold A. Jr. Vida publica de don Pedro Gual. — Caracas, 1947. — P. 143. 182 Bolivar S. — Vol. 1. — P. 219. 183 См. Urrutia F. J. Politica international de la Gran Colombia. — Bogota, 1941. — P. 26, 74. 184 См. Bierck Harold A. Jr. Op. cit. — P. 143. 185 См. Rivas R. Op. cit. — P. 21. 186 Цит. по Bierck Harold A. Jr. Op. cit. — P. 155. 187 См. Rivas R. Op. cit. — P. 21–22. 188 См. Urrutia F. Op. cit. — P. 113–114. 189 Ibid. — P. 122. 190 Bolivar S. — Vol. 1. — P. 311, 327. 191 См. American State Papers. Foreign Relations (1789–1828).- Vol. IV. — Wash., 1852. — P. 623–625. 192 См. O'Leary D. Op. cit. — Vol. 15. — P. 537. 193 Текст инструкций см. Mier J. M. de. Op. cit. — Vol. 6. — P. 1922–1925. 52 См. Manning W. R. (Ed.) Op. cit. — P. 82. 63 Bolivar S. — Vol. 1. — P. 303. 194 См. Bolivar S. Aquel hombre solar. — La Habana, 1982. — P. 13–14; Manning W. R. (Ed.) Op. cit. — P. 55–58. 195 Полностью переписка между Боливаром и Ирвином впервые была опубликована в связи со 150-летием со дня рождения Боливара (см. Boletin de la Academia Nacional de la Historia (Caracas). — Vol. XVI. - N 62. — Abril — Julio. — P. 190–215). 196 Цит. по Simon Bolivar and Neutral Rights. Documents//The Hispanic American Historical Review. — Vol. XXI. — 1941. — № 2. — P. 258. 197 См. Garcia Arrieche G. Op. cit. — P. 118–119. 198 См. Madariaga S. Bolivar. — Vol. 11. — Madrid, 1979. — P. 41–42; Calderas F. Op. cit. — P. 61. 199 Bolivar S. — Vol. 1. — P. 406. 200 Цит. no Rivas Vicuna F. Las guerras de Bolivar. — Vol. 11. — Bogota, — P. 248. 201 Цит. no Verna P. Op. cit. — P. 240. 202 Цит. по Latinoamerica. Cuadernos de cultura latinoamericana, 36. — Mexico, 1979. — P. 9. 203 Bolivar S. — Vol. 111. — P. 735. 204 Ibid. — Vol. II. — P. 482, 1229. 205 Цит. по Bolivar y la opinion publica. — P. 44. 66 Bolivar y Europa… — P. 599. 206 Marti J. Obras completas. — Voi. XIV. — La Habana, 1961. — P. 281. 207 Peru de Lacroix L. Op. cit. — P. 69. 208 Gibson W. M. The Constitutions of Colombia. — Durham, 1948. — P. 49. 209 Цит. по Bierck Harold A. Jr. Op. cit. — P. 177. |
|
||
| Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх | ||||
|
|
||||
