|
||||
|
|
О репрессиях«Пока государство существует…»— Все равно вы сейчас не получите готовых фактов, которые запутаны и всячески, так сказать, исковерканы и затуманены другими фактами. Будто бы и выпутаться сейчас полностью нельзя. Но все-таки основное-то, оно остается, если вдуматься и постараться разобраться. Во-первых, наша страна выбралась на передовые, так сказать, позиции, и в ней есть две основные вещи с самого начала ее революции, которые она не могла преодолеть в короткий срок. И даже сейчас еще не преодолела полностью. Первая — это внутренняя отсталость. Выбраться на самые передовые позиции на разрушение капитализма и построение социалистического общества в отсталой стране — это же ведь очень сложная задача. Подавляющее большинство считает, что это даже противоречит марксизму, и так ведь изображают, что Ленин отошел от Маркса. На Западе стараются. Хотя это последовательный сторонник, мыслитель и революционер в духе Маркса, Энгельса. Маркс строил свою теорию на объективных моментах, а Ленин, дескать, ввел субъективный момент в такой мере, в какой Маркс не предусматривал. Это, конечно, неверно, но в какой-то мере фактически соответствует. Это новый момент — отсталость страны. Второй момент: развитые капиталистические страны остались капиталистическими. Это уже внешний момент. Тут никуда не денешься. Вот с этими двумя вещами, не говоря уже о всем прочем, надо считаться. Это такие колоссальные трудности, которые преодолеть можно, если возможно, только при особых условиях. Ленин даже после победы, в первые годы Советской власти, допускал, что мы, так сказать, провалимся. Открыто говорил, что если мы не сумеем осуществить построение социалистического общества, то все же мы сделаем все, что только можно сделать. Он уступать был неспособен по своему общему, так сказать, направлению. Но, видите ли, уже вот Гроссман пишет: дело не в Сталине, а в Ленине. Тут тоже есть своя правда, потому что у Ленина не было тех возможностей, которые у Сталина появились. Ленин разве бы терпел всю эту оппозицию вокруг себя, но он был не в состоянии в те годы. И что он мог сделать? Его гениальность в том, что он в этих условиях удержался. Это действительно гениально. 1937 год был необходим. Если учесть, что мы после революции рубили направо-налево, одержали победу, но остатки врагов разных направлений существовали, и перед лицом грозящей опасности фашистской агрессии они могли объединиться. Мы обязаны тридцать седьмому году тем, что у нас во время войны не было «пятой колонны». Ведь даже среди большевиков были и есть такие, которые хороши и преданны, когда все хорошо, когда стране и партии не грозит опасность. Но если начнется что-нибудь, они дрогнут, переметнутся. Я не считаю, что реабилитация многих военных, репрессированных в тридцать седьмом, была правильной. Документы скрыты пока, со временем ясность будет внесена. Вряд ли эти люди были шпионами, но с разведками связаны были, а самое главное, что в решающий момент на них надежды не было. …Все это Молотов сказал в ответ на бытующее суждение о том, что, если бы не погибли Тухачевский и Якир, у нас не было бы такого страшного начала войны. — Это модная фальсификация, — сказал он. 18.12.1970 — Один профессор у меня бывает. «Как объяснить этот период?» — спрашивает. Я говорю: а что было бы, если б они, правые, стали во главе государства? Как бы повернулась история? Если вы проанализируете по деталям, вы найдете выход из положения. 19.02.1977 — В условиях государства, пока государство есть, оно кой-какие болезни с собой несет, а без него нельзя жить, нельзя двигаться вперед, — говорит Молотов. — Неодинаковый уровень жизни, в зависимости от того, нарком ты или… — А это как раз связано. Это все надо учитывать. Пока государство существует, а оно еще долго будет жить, пока деньги — они еще тоже поживут — это такие глубокие причины порождения всяких отрицательных явлений, в том числе бюрократизма, карьеризма, стяжательства всякого, ну и жестокости. …Чистка партии вполне соответствует принципу демократического централизма, но нигде не проводится, никогда, только у нас проводилась. Вот теперь чехи повторили. А мы несколько чисток провели, и таких, что просто… Очень острых. И тут тоже было ошибок немало. — Значит, в 1938 году было не до реабилитации, как вы считаете? Из-за близости войны? — Из-за войны и из-за того, что еще неясно, проверять-то через кого. Много очень недоверия. И пострадали не только ярые какие-то правые или, не говоря уже, троцкисты, пострадали и многие колебавшиеся, которые нетвердо вели линию и в которых не было уверенности, что в трудную минуту они не выдадут, не пойдут, так сказать, на попятную. И все-таки Хрущевы сохранились, Микояны сохранились, и не только они… — Да, но обидно, что погибли хорошие, понимаете? — Такое острое дело… В острой такой борьбе, в такой сложной, которая проводилась руками не всегда проверенных лиц, иногда, может быть, злостно помогавших уничтожению хороших людей, и такие были, безусловно. Это, знаете ли, очень сложно проверять. В этом опасность государства, особенно государства диктатуры пролетариата, всякой диктатуры — она требует жесткой дисциплины, непримиримой. А через кого проводили мы это? Через людей, которые не всегда этого хотят, а в душе очень даже противятся этому, а если почувствуют опасность, они перегнут палку, чтобы выслужиться и карьеру сохранить. И через таких людей очень и очень многие дела делаются, потому что нет готовых, чистеньких таких, очищенных от всех грехов людей, которые бы проводили политику очень сложную, трудную, сопряженную со всякими неясными моментами. Проверят — не проверят, и сама проверка не всегда подходяща бывает… Устроить чистку партии — это опасно очень. И начнут чистить лучших. Вычистят многих, которые честно, прямо говорят, а те, которые все шито-крыто держат, за начальством готовы выслуживаться, те сохранят свои позиции. А это и раньше было тоже в какой-то мере неизбежно, пока карьеризм, приспособленчество держат людей в цепях… — Тридцать седьмой год — продолжение революции, — говорит Шота Иванович. — Я считаю, что в известном смысле революция сегодня не закончена, — соглашается Молотов. — В какой-то мере, да. У нас еще не построен социализм полностью… …Молотов рассматривал репрессии не как произвол руководства, а как продолжение революции в сложной международной обстановке: — Люди, которые пришли на готовое, — им кажется, все проще делается… 03.02.1972 «Если бы задрожало руководство…»— В этом надо разобраться. И надо вспомнить о троцкизме и особенно о правом уклоне. Дело в том, что в 1937 году шатающихся, колеблющихся было немало. Погибло много честных коммунистов. Нет дыма без огня. Но тут чекисты перестарались. Им дали задание, так они и рады стараться. У многих были колебания, иногда из-за этого гибли честные люди. 18.02.1971 — Кого обидели, кого понизили. Все эти разные мотивы толкали на критические позиции, а это были такие критики, которые не способны понять новое и готовы были идти на плохие дела… Очень много было людей, которые на словах кричали «ура!», за партию и за Сталина, а на деле колебались. Яркий пример тому Хрущев, который в свое время был троцкистом… Разобраться во многом сейчас трудно. Но нужно было быть очень начеку. Это сейчас мы все стали умные, все-то знаем и все перемешиваем во времени. Во всем были разные периоды. Надо разобраться и с каждым периодом, и с каждым действующим лицом отдельно. Социализм требует огромного напряжения сил, в том числе и жертв. Здесь и ошибки. Но мы могли бы иметь гораздо больше жертв во время войны и даже дойти до поражения, если бы задрожало руководство, если бы в нем, как трещины и щели, появились разногласия. Если бы сломили верхушку в тридцатых годах, мы были б в труднейшем положении, во много раз более трудном, чем оказались. Я несу ответственность за эту политику и считаю ее правильной. Я признаю, я всегда говорил и буду говорить, что были допущены крупные ошибки и перегибы, но в целом политика была правильной. Все члены Политбюро, и я в том числе, за ошибки несут ответственность. Но есть тенденция, что большинство осужденных невинно пострадало. В основном пострадали виновные, которых нужно было в разной степени репрессировать. 06.12.1969, 29.07.1971 — Но одно дело политика, другое — проводить ее в жизнь. Если отказаться от жестоких мер, это может привести к опасности раскола. Сыграл свою роль наш партийный карьеризм — каждый держится за свое место. И потом, у нас если уж проводится какая-то кампания, то проводится упорно, до конца. И возможности тут очень большие, когда все в таких масштабах… 27.04.1973 — Марксистскую мысль надо все время подкреплять. Личность будет или не будет — неизвестно, дай бог, чтоб не одна личность была, а много хороших! Кое-кто из-за этих ошибок пытался бросить тень на весь наш строй. Неправильно, не так-де строили социализм! А кто лучше построил? Мы впервые строили… 15.08.1972 — Я оправдываю репрессии, хоть там и были крупные ошибки. Надо иметь в виду, что это был и не просто перебор, если во главе госбезопасности оказался Ягода, который на суде прямо говорил: оппозиционеры потому так долго были наверху, что я им помогал; но я теперь признаю свою ошибку и неправильность, и поэтому пощадите меня, оставьте мне жизнь, потому что я вам услугу оказал! У меня же есть стенограмма этого судебного процесса, он говорил: да, потому так поздно разоблачены правые и троцкисты, которые здесь сидят, что я этому мешал, но теперь-то я всех их разоблачаю, вы за это мне гарантируйте жизнь! Вот вам гад какой! Коммунист, нарком, вот какая сволочь сидела около Дзержинского! Его, как ближайшего помощника Дзержинского, сделали постепенно, не сразу, после Менжинского, наркомом госбезопасности… Что это за человек, что это за грязь такая душевная? Я его знал очень хорошо в те годы, жалею, что он был близким человеком Дзержинскому. Дзержинский-то светлая личность, ничем его не запятнаешь, а это маленькая грязная сошка околопартийная, которая только в 1937 году попалась! Вот с какими гадами мы работали, а других-то не было! Не было! Поэтому, конечно, ошибки наделаны немалые. И нарочно нам подсовывали, и невинные попадались. Девять там, восемь, скажем, правильно, а два или один — явно неправильно. Ну, разберись во всем этом! А откладывать было нельзя. Война готовится. Вот ведь как. 09.01.1981 — Да, я и теперь считаю, что в основном в тридцать седьмом и вторую половину тридцатых годов правильно действовал ЦК. Сделать все это гладко, милостиво было бы очень плохо. Ведь интересно, что до этих событий второй половины тридцатых годов мы все время жили с оппозиционерами, с оппозиционными группами. После войны — нет никаких оппозиционных групп, это такое облегчение, которое многому помогло дать правильное, хорошее направление, а если бы большинство этих людей осталось бы живо, не знаю, устояли бы мы крепко на ногах. Тут Сталин взял на себя, главным образом, все это трудное дело, но мы помогали правильно. Правильно. И без такого человека, как Сталин, было бы очень трудно. Очень. Особенно в период войны. Дружности не было бы уже. Расколы. Кругом — один против другого, ну что это? Переборщили и наделали немало ошибок — это тоже бесспорно… А если бы не было этих репрессивных периодов, они бы не боялись так — тоже надо иметь в виду. — Евтушенко пишет в своем романе, что если основано на страхе, то это не победа. — Если б таких героев, как Евтушенко, поставить, была бы победа? Мы были отсталой страной. Мелкокрестьянской, как говорил Ленин. Конечно, то, что она уцелела, что социализм удержался и потом все-таки пошел вперед, — это, по-моему, величайшая заслуга того периода, и в этом сыграла важную роль эта самая эпидемия репрессий. Да. Ленин весной двадцать первого года на X съезде говорил, что надо беспощадную борьбу вести, и разве мы будем терпеть дальнейшие дискуссии? Нет, никаких дискусий! А они продолжались. При Ленине не было другого выхода, а уж после того, как Ленин отошел в начале двадцать третьего, — это тоже надо учесть: при Ленине и без Ленина. Даже при Ленине было столько несогласных, столько оппозиционных групп всевозможных. Ленин считал это очень опасным и требовал решительной борьбы, но ему и нельзя было выступать в качестве прежде всего борца против оппозиций, против разногласий. Кто-то должен был остаться несвязанным всеми репрессиями. Ну, Сталин взял на себя фактически громадное большинство этих трудностей и преодоление их. По-моему, в основном он с этим делом правильно справился. Мы все это поддерживали. В том числе я был среди главных поддерживающих. И не жалею об этом. 09.12.1982 — Правилен ли был тезис Сталина об обострении классовой борьбы при социализме? — Правильный, поскольку это рассматривалось в определенных периодах… Не просто все время обострение, а в определенные периоды были обострения, безусловно. 01.01.1983 — Я слышал такой разговор, что Сталин и вы дали директиву органам НКВД применять пытки. — Пытки? — Было такое? — Нет, нет, такого не было. — Обвиняют Вышинского, что он отменил юридическое право, людские судьбы решались единолично. — Ну, его нечего обвинять, он ничего не решал. Конечно, такие перебарщивания были, но выхода другого не было. — Человека могли засудить по воле секретаря райкома. — Могло быть. Настоящие большевики не могли перед этим остановиться в такой момент, накануне Второй мировой войны. Это очень важно. — Еще говорят: такие, как Сталин, Молотов, только себя считали ленинцами, а других — нет. — Но выхода другого не было. Если бы мы не считали себя ленинцами и не нападали бы на тех, которые колебались, тогда могли бы ослабиться в какой-то мере. 14.10.1983 — О тридцать седьмом говорят так: «В стольких семьях арестовали кого-то, что, Сталин и Молотов не знали этого?» — Мещанский разговор. Он неизбежен, — отвечает Молотов. 01.01.1985 — Недавно я ехал с шофером из Москвы сюда. Пожилой человек, первый раз со мной ехал. Кого дают, с тем и еду. Я обыкновенно включаю «Маяк», информацию и музыку слушаю. А тут я вижу, он хочет поговорить со мной под тем предлогом, что я музыку выключил. Думаю, что он скажет. Какой-то повод нашел, какой-то я ему вопрос задал, чтоб немножко оживить это дело. Он начал говорить: «Как это все-таки хорошо придумано в России, что вот Сибирь есть!» Я говорю: «Да, Сибирь, конечно, это дело большое, без нее было бы трудно, она нам поможет во многих случаях». «Действительно, во Франции нет Сибири, в Германии нет, у них дела не так идут». Думаю, куда он клонит? «А в каком смысле вы говорите о пользе Сибири? Я понимаю, что у нас там богатства такие…» «Я думаю, вы понимаете, в каком смысле я говорю. Было время, когда нужно было раздавить всю эту дрянь, весь этот мусор. Сталин-то дальновидный был человек, Иосиф Виссарионович дальновидный был, вовремя задавили кого надо. Именно вовремя, потому что надо было действовать крепко, решительно, беспощадно. И товарищ Сталин взял это дело крепко в руки». «Я с вами согласен, правильно», — говорю ему. Больше ничего он не стал говорить. Мы подъезжали, правда, уже к даче. Люди все видят. Что же, говорят, вторую революцию, что ли, устраивать? 01.11.1977 — Я помню ребенком, — говорит Шота Иванович, — это было страшно, это было ужасно, появлялись сотрудники НКВД, это же был страх, как перед гестапо, допустим. — Конечно, — говорит Молотов. — Придут, кого-то заберут. Моего отца забрали, и он погиб, потому что не любил Берию, мать мучилась. Ужасно было, я не отрицаю и помню это хорошо, но надо сказать, без органов госбезопасности Советской власти не было бы. — Конечно, — соглашается Молотов. — Вот у Феликса дед был репрессирован[58]… Партия требовала с органов: «Плохо работаете!» Почти никогда им благодарность не выносили. — Шота Иванович рассказывает о своих родителях, пострадавших в тридцать седьмом. Отец, Иван Виссарионович Кванталиани, был обвинен в покушении на Берию. Расстреляли на мусульманском кладбище в Тбилиси. Мать сидела в тюрьме и во время войны выполняла семьсот процентов плана. 76.05.1977 — Мою маму арестовали за что? — говорит Шота Иванович. — Член семьи изменника Родины. ЧСИР. Член семьи, больше ничего. — Я понимаю, — говорит Молотов. — А отец за что был арестован? — Кажется, правый. С 1905 года член партии. Три раза сидел как большевик. — Да хотя бы с наполеоновских времен. Когда-то был большевиком, потом, видимо, не стал большевиком. — Всегда был большевиком. Мать получала за него персональную пенсию, когда реабилитировали, путевку получала бесплатную. Мать — дома сидела, из бедной крестьянской семьи. — Из кулаков, может быть? — Отец из бедной крестьянской семьи, и мать тоже… Сталин и вы смотрели с трибуны, когда несли «ежовы рукавицы». Сталин одобрил это? — Так потому, что никто не возражал… Ежов — дореволюционный большевик, рабочий. Ни в каких оппозициях не был. Несколько лет был Секретарем ЦК. Работал в аппарате ЦК довольно долго. Первым секретарем Казахского обкома. Хорошая репутация. Что он мог подразложиться, это я не исключаю. Какие-то у меня остались впечатления… — В книге А. С. Яковлева «Цель жизни» Сталин говорит примерно так о Ежове: «Звонишь в наркомат — уехал в ЦК, звонишь в ЦК — уехал в наркомат, посылаешь на квартиру — вдребезги пьяный валяется…» Как его тогда понять, Ежова? Был честным и наломал дров, да? — Так можно сказать: наломал дров и перестарался… Когда человек держится за место и старается… Вот это и называется карьеризм, который имеет громадное значение, все растет, одна из главных наших современных болячек. Руби, руби! Его же главный недостаток был в том, что он дошел до того, что как руководитель действительно в этот период уже разложился, я от вас слышу не первого, что так Сталин сказал. Я читал Яковлева, но не все помню. Ежова стали обвинять в том, что он стал назначать количество на области, а из области в районы цифры. Такой-то области не меньше двух тысяч надо ликвидировать, а такому-то району не меньше пятидесяти человек… Вот за это и расстреляли его. Контроля, конечно, за этим уже не было. — Ошибка Политбюро, что слишком передоверились органам? — Нет. Были недостатки… Можно сказать: Молотов не плешивый? Можно сказать. Но это вовсе не значит, что у него кудри. Если говоришь, что человек невысокий, это вовсе не значит, что он низкий. Я не говорю, что Ежов был уж совсем незапятнанным, но он был хорошим партийным работником. Контроля надо было больше… Был, но недостаточный. — Органы поставили себя над партией? — Нет, это не так. Опасность уклонов была настолько велика, что это надо учитывать. Недостаточно было времени, недостаточно возможностей. Я не говорю, что передоверились, а я говорю, что недостаточно контролировали, недостаточно. Что передоверились, я не согласен. Контроль недостаточный. 27.04.1973 — Были вещи, которые, конечно, ломали людей, чего тут говорить. А все эти оппозиции? Сегодня друзья, а завтра у нас шла острая борьба. Были хорошие люди, а среди правых тем паче, конечно. Из всех членов Политбюро, которые при Ленине были, один Сталин остался, а остальные в оппозиции. Троцкий, Зиновьев, Каменев, Рыков, Томский, Бухарин… Конечно, сложная обстановка для Сталина — выдержать в таких условиях, со всех сторон критикуют — и недовольство, и брюзжание, и неуверенность, конечно, тут нервы должны быть. Сталин тоже очень ценил Бухарина. Еще бы! Человек очень подготовленный. А что поделаешь? 06.06.1973 На всякий случай забирали— Либерализм есть непонимание того, что трудно провести линию, где правильно, где неправильно, а чекисты на всякий случай забирали — что тут делать? Чекисты тоже имеют свою философию: ошибешься — тебе влетит. И тут много хороших людей попало. 23.11.1971 Судебные процессы— Во-первых, я отвечаю за все репрессии как Председатель Совнаркома. Я отвечаю… Уханова я знал хорошо. Это довольно хороший, интересный парень. Красивый, между прочим. Из рабочих, металлист, по-моему, он был с «Динамо», революционер. Был председателем Московского Совета. С правыми связался. Я отвечаю за всех. Поскольку я подписывал под большинством, почти под всеми… Конечно, принимали решение. Ну а в конце концов по доверию ГПУ, конечно Спешка была. Разве всех узнаешь? Но я говорю, надо помнить о том, что в аппарате того же НКВД было немало правых. Ягода правый насквозь. Ежов другого типа. Ежова я знал очень хорошо, лучше Ягоды. Ягода тоже дореволюционный большевик, но не из рабочего класса… — Но результат у них оценивается одинаково. — Разница есть. Политическая есть разница. Что касается Ягоды, он был враждебным по отношению к политике партии. Ежов не был враждебным, он перестарался — Сталин требует усилить нажим. Это немного другое. Он не из подлых чувств. И остановить невозможно. Где тут остановить? Разобраться. А разбирались зачастую те же правые. Или троцкисты. Через них мы получали очень много материала. А где найти других? — Но когда забирают командира полка только за то, что знал Якира? Или видел издалека? — Можно и не видеть, но оказаться в этой группе. Не надо обязательно лично знать. Каждый сторонник Сталина лично, что ли, знал Сталина? Он верил в эту линию, политику и боролся. Удивляет в этих процессах открытых, что такие люди, как Бухарин, Рыков, Розенгольц, Крестинский, Раковский, Ягода, признали даже такие вещи, которые кажутся нелепыми. Ягода говорит: я ничем не лучше, чем любой шпион, который действовал против Советского Союза. Конечно, это явная нелепость безусловно. Как же это они так? И действительно, кто имеет представление о Рыкове или Бухарине, даже о Розенгольце, страшно поражаются, как это так? Я думаю, что это был метод продолжения борьбы против партии на открытом процессе, — настолько много на себя наговорить, чтобы сделать невероятными и другие обвинения. Я даже готов сказать, что там только десять процентов нелепости, может быть, и меньше, но я говорю, что они такие вещи нарочно себе приписали, чтобы показать, насколько нелепы будто бы все эти обвинения. Это борьба против партии. Вы не хотите психологическую и политическую сторону учесть, потому что вопрос возникает: неужели все это правда? Я думаю, что и в этом есть искусственность и преувеличение. Я не допускаю, чтобы Рыков согласился, Бухарин согласился на то, даже Троцкий — отдать и Дальний Восток, и Украину, и чуть ли не Кавказ, — я это исключаю, но какие-то разговоры вокруг этого велись, а потом следователи упростили это… 04.72.1973 — Придет время, разберутся. В лидерах партии были свои Солженицыны. И тогда приходилось их терпеть, и теперь. К 1937 году они потеряли платформу и поддержку народа. Голосовали за Сталина, а были двурушниками. На процессе показано, как по указанию правых отравили Куйбышева, Горького. Ягода, бывший начальник ОГПУ, участвовал в организации отравления своего руководителя в ОГПУ Менжинского. 08.01.1974 — Были ли сомнения у самого Сталина по 1937 году, что перебрали, переборщили? — Как же не было? Не только сомнения. Ежова-то, начальника госбезопасности, расстреляли. — А не сделал ли его Сталин козлом отпущения, чтоб все на него свалить? — Упрощенно. Так считают те, кто плохо понимает положение страны в то время. Конечно, требования исходили от Сталина, конечно, переборщили, но я считаю, что все это допустимо ради основного: только бы удержать власть! — В некоторых художественных произведениях стали появляться моменты, где Сталина мучат сомнения насчет жертв тридцать седьмого года. — Несчастные! Кого жалеть? Они ведь губили дело! — Говорят, Сталин извинялся перед Рокоссовским? — Вполне возможно. Рокоссовский — хороший человек. Мерецков тоже сидел до войны. 29.02.1980 — Троцкий после процесса назвал Зиновьева и Каменева слизняками. — Вот почитайте, что говорит Бухарин на процессе. Я читаю.
— Это-то он умеет формулировать. Ну, дальше.
— Кто этот Николаевский? — Меньшевик один за границей.
— Ну, тут он немножко крутит…
— Хороший оратор. Умеет говорить. Речь чистая, — говорит Молотов. — Сейчас эти процессы сумели затоптать ногами, не переиздают. А ведь все открыто печаталось. В зале были иностранные корреспонденты, буржуазная пресса левая и гитлеровская, дипломаты, послы присутствовали… Еще и потому были ошибки и большие жертвы, что мы оказались чересчур доверчивы к тем людям, которым уже нельзя было доверять. Они уже переродились, и мы поздно от них избавились. — Личное тоже здесь примешивается. Попытка «Дворцового переворота»… — Личное — я с этим не могу согласиться. Это сводит дело, по существу, к мелочам. Потому что личное — у каждого есть личное, у хороших и у плохих, а почему именно эти люди, которые шли по одному пути, потом повернули в совершенно противоположном направлении? Личный карьеризм — это было бы очень мелко, узко. А вот то, что они уже не верят, потеряли веру — им нужен другой выход. А другой выход могут указать только непримиримые враги Советской власти. Либо я защищаю Октябрьскую революцию, либо против нее и ищу сторонников в тех, кто против. Видите, когда встречаются трудности, это сложная штука. Не все выдерживают. А партия идет вперед, наступает. А они уже искали, где бы щель себе найти. Никуда не удерешь, ты уже на виду, ты уже Троцкий, ты уже Бухарин, ты уже должен говорить то, что и раньше говорил, и они повторяли, а в душе уже не верили. Вот это и превратило их потом в такие тряпки… 14.08.1973 — Бухарин говорит как на процессе? Что у меня остается, если я буду что-нибудь прятать? Ради чего? У меня ничего теперь нет. Я стою перед небытием, поэтому я все скажу… Они видят, что не выкарабкаются, пойманы. — Но сейчас говорят, что у обвинения не было никаких фактов, кроме признания обвиняемых, что еще не является доказательством вины. — Какое нужно было еще доказательство вины, — отвечает Молотов, — когда мы и так знали, что они виноваты, что они враги! Почитайте Бухарина — это же оппортунист! А кулацкие восстания? — То, что они не были виноваты, об этом речи не может быть? — Безусловно. Вот они старались довести до степени абсурда, потому что действительно они были страшно озлоблены. Победа над ними одержана. Конечно, Бухарин был о себе очень высокого мнения, и ему было слишком неприятно, что он провалился. Очень, очень. 09.11.1973 — Теперь говорят, что вместо подсудимых актеры были. А я ставлю вопрос: «Немцы затеяли единственный процесс над одним человеком, его вел Геринг, и в первый же день процесс провалился!» — Правильно, — соглашается Молотов. — Все опубликовано. Кроме двух военных процессов. Они были закрытыми. Потому что военная тайна. Враги Советской власти всегда так изобразят, что лучше не придумаешь. Двенадцать дней в присутствии мировой прессы идет открытый процесс, судят двадцать одного человека, все довольно известные лица… И наши враги в зале сидят… 08.01.1974, 08.03.1975 — Сейчас вот о чем говорят: «Да, действительно, было много жертв принесено, чтобы защитить Советскую власть, но зачем нужна такая власть, из-за которой погибают столько миллионов? — спрашивают. — Не лучше ли была бы монархия либо конституционная демократия?» — Каждый устроившийся в буржуазном обществе человек будет так говорить, но не устроившийся рабочий, крестьянин, бедняк с этим не может согласиться, — говорит Молотов. — И жертва при старом строе, жертв было бы гораздо больше, и войн было бы без конца — все новых и новых — это неизбежно. — А вот это попробуйте доказать! — И доказывать не надо. Это жизнь покажет. Тем, кому еще не показала. А не основной массе рабочих и крестьян. 13.06.1974 — Те, которые говорят, что процессы — филькина грамота, это просто союзники белой гвардии по своей тупости умственной. Этого никакая организация ГПУ и прочая наша охрана не могла организовать, а на этих процессах, их было три основных — в тридцать шестом, тридцать седьмом, тридцать восьмом годах, — там достаточно материалов. И говорили такие люди, которые были окончательно деморализованы и выкладывали столько! Я думаю, допускаю, что они не все выложили и все-таки еще кое-что путали. Такие, как Крестинский, Розенгольц, такие, как Ягода, такие, как Бухарин, Пятаков, — сказать, что они все говорили по какой-то шпаргалке, — это абсурд! Пока империализм есть, это все будет повторяться заново — правые, левые. Пока империализм существует, ни от чего мы не избавлены. — Если б вы в тридцать седьмом не победили б, то, возможно, и Советской власти не было б! — говорит Шота Иванович. — Нет, это тоже, я считаю, крайность. Было бы больше жертв. Я думаю, мы все равно победили бы. На миллионы было бы больше жертв. Пришлось бы отражать и немецкий удар, и внутри бороться. 16.06.1977 — Вас обвиняют в том, что Сталин убил самых талантливых людей. — Талантливого Троцкого, талантливого Зиновьева… Вот бы мы поползли назад с такими талантами! Талант таланту — рознь… 28.12.1977 — Возникла новая версия насчет открытых процессов тридцатых годов. Вроде бы им пообещали жизнь, если они все признают за собой. — Белогвардейская версия. Белогвардейская. Это и раньше было. Что, они дураки, что ли? 28.04.1976 — Некоторые обвиняют вас, — говорит Шота Иванович, — что вы плохо тридцать седьмой год провели, надо было больше репрессировать, много прикрытых врагов осталось. Вы показали в своей записке: с партийными билетами двурушники сидели! — И в областных организациях, и в наркоматах. В самом Политбюро сидели люди, не верящие в наше дело. Тот же Рыков. Да и Зиновьев. Рыков был убежден, что на Дону будет восстание. Чем объясняется эта острая борьба внутри партии перед войной, чем объясняется? Тут важная мысль. Я не сразу до нее дошел, но я ей придаю значение. Чем это объяснить? Эксплуататорские классы не были добиты. И это отразилось в партии. — А сейчас говорят, что эксплуататорские классы были уничтожены, к 1937 году уже ни кулаков не было, никого… — На другой день их уже добили, как выслали кулаков! — говорит Молотов. — А теперь мы подходим к тому, что полностью не закончили. Кулаков-то мы победили, а по существу-то еще и теперь не все сделали. Кулацкие настроения и сейчас есть, сколько угодно! С партийным билетом защищают кулаков. Труженики, говорят… И писателей таких много — не соображают. — Разговоры идут такие, что Ленин бы так не поступил, как Сталин, со своими противниками. Это деспотический характер Сталина сказался. Ленин даже с Троцким столько возился! — Другая эпоха была, никуда не денешься. Вот в том-то и дело. «Я уйду из партии, я уйду из правительства!» — Ленин говорил. Вот до чего доходило! Конечно, Ленин в том или другом случае был более гибким, Сталин — менее терпим. Но с другой стороны, Ленин был за исключение Зиновьева и Каменева в Октябрьский период, а Сталин защитил. В разных случаях бывает так и так. Но что Ленин был мягкотелым, этого нельзя сказать. Гладящим сопливых ребятишек — нет. Ленина так нельзя изображать. 30.06.1976 — Остановиться мы не могли, достаточно разобрались в человеке, знали его объективно, не было никакой возможности откладывать, в некоторых случаях висело дело на волоске. Я считаю, что мы поступили правильно, пойдя на некоторые неизбежные, хотя и серьезные излишества в репрессиях, но у нас другого выхода в тот период не было. А если бы оппортунисты возобладали, они бы, конечно, на это не пошли, но тогда бы у нас во время войны была бы внутренняя такая драка, которая бы отразилась на всей работе, на самом существовании Советской власти. Нас можно и нужно критиковать, даже обвинять в излишествах, но у нас другого выбора, по-моему, не было. Это был лучший из возможных. — Ваши противники говорят так: «Было бы лучше, если бы Бухарин победил, свергли бы Сталина, Молотова, меньше крови было бы». — Настоящий коммунист не может так говорить. Некоторые теперь идут дальше. Не просто мы переборщили в репрессиях, все это оправдывает ошибки, в том числе грубые ошибки, иначе бы правые расправились со всеми нами и пошла бы внутренняя острая борьба. Мы бы не покорились, а Гитлер бы на этом очень много выиграл. Это бы, конечно, нанесло удар всему будущему движению коммунистов в Европе, имеется в виду, конечно, главным образом, Европа. Китай не был еще поставлен на прочную основу. Я считаю, что нас за это обвиняют люди, неспособные мыслить и действовать, как большевики. Конечно, мы в этом виноваты, поскольку были на руководящих постах, но это вопрос более глубокий. Роль личности, в частности, Сталина, не говоря уже о Ленине, конечно, большая очень. — Пример Чили. Альенде никого не трогал, а что из этого вышло? Какой кровавый террор! — Конечно. В условиях международной обстановки Гитлеру была бы такая помощь от большевиков… Это была бы внутренняя драка в ЦК и в партии. Тогда мы не знали бы, чем кончилось бы. Ничего хорошего ждать от этого не приходится. Я, например, понимал, что некоторые, оставшиеся от Ленина, но небольшевистского типа, против идут, — такие, как Зиновьев, Каменев, Бухарин, они играли большую роль в партии. В генеральных вопросах в основном и целом мы выработали правильную позицию. 14.10.1983 А люди были разные— А люди были разные. Со многими еще надо разобраться. Вот взять Варейкиса. Репрессировали, реабилитировали. А ведь он был агентом царской охранки. Точно совершенно, по документам. Я могу допустить, что потом он изменил свое мировоззрение. Там тоже не дураки были, в охранке, я часто бывал в тюрьмах и ссылках, там поумней нашего брата среди них были… Послали меня в 1919 году в ЦК к Варейкису в Ульяновск. Варейкис выступает против ленинской линии. Я вынужден был выступать с докладом. Он стал изворачиваться и тут же говорить все наоборот. Я понял, что это за человек, что за большевик. И таких было немало. 06.12.1969 — В народе по-доброму вспоминают Постышева… Косарева… — Постышев производил хорошее впечатление, обладал неплохими качествами, но в последний период допустил ошибки, был ближе к правым. Косарев был из рабочих, из молодых. Как комсомолец, он был активным, но, безусловно, был правым. Он был человеком бухаринско-слепковского типа. Была такая группа молодежи, Слепков был такой, редактор «Коммуниста». Марецкий, брат актрисы. Астров… Он потом стал писать книжки по истории партии, поправился, как говорится. Еще несколько — Эйхенбаум или Айхенбаум… Такая молодежная группа во главе со Слепковым. По молодежной части у правых был Слепков. Московский организатор неплохой, но кулацкого типа, неприятный… И сейчас сознательно, под влиянием необухаринского тормозящего лобби нанесен огромный ущерб народному хозяйству. Крестьянская страна, что вы думаете! Даже не только в крестьянской стране, но и в Германии, особенно в Англии, где большинство рабочих, выдвигали рабочую аристократию, боялись потерять то, что у них есть. Удержать все это мягкими мерами нельзя. Такой, как Хрущев, он бы сразу переметнулся. Очень сложное время было. 19.02.1971, 01.05.1981 — Буржуазные демократы называют вас «антилюдьми». Вы расстреливали за взгляды. В буржуазном парламенте никогда сенаторов не расстреливают. — Потому что там не делают то, что нужно делать. Мы не все учитывали сначала, не все понимали. Не думали, конечно, что пойдет гладко, но не все охватывали… И вот когда вредительство пошло, тут уже стали понимать. Если коммунист Рухимович, по нашим данным, участвовал во вредительстве, а я его лично знал очень хорошо, Рухимовича, и очень хороший он человек, а вот видите, он настолько уже был колеблющийся… Я на Пленуме ЦК в 1937-м цитировал Рухимовича как вредителя. Он признавался в этом. Были показания. Возможно, что вымышленные показания, но не все же доходили до того, что признавали себя виновными. Рудзутак — он же ни в чем себя не признал! Расстреляли. Член Политбюро. Я думаю, что он не был сознательным участником, но либеральствовал с этой братией и считал, что все это чепуха, все это мелочи. А простить нельзя было. Он не понимал опасности этого. Он до определенного времени был неплохой товарищ. Довольно умный человек, безусловно. Своего рода нелатышская гибкость у него была. Латыши в среднем не то что медленно думают, а немного упрощенно. Выдающихся мыслителей у нас в партии не было среди латышей. А он отличался известной гибкостью мысли, этим выделялся, поэтому и попал в Политбюро. Бывший каторжанин, четыре года на каторге был. Как большевик попал на каторгу. Видимо, в Латвии попал. Заслуженный человек. Неплохо вел себя на каторге и этим, так сказать, поддерживал свой авторитет. Но к концу жизни — у меня такое впечатление сложилось, когда он был у меня уже замом, — он немного уже занимался самоублаготворением. Настоящей борьбы, как революционер, уже не вел. А в тот период это имело большое значение. Склонен был к отдыху. Особой такой активностью и углублением в работе не отличался, но как человек способный и с большим уже политическим опытом он был полезен при обсуждении — неглупый, наблюдательный человек. Вот эта склонность немножко к отдыху и занятиям, которые связаны с отдыхом… Выпивать он не выпивал. Куйбышев тоже мой зам, он, наоборот, выпивоха порядочный был. Эта у него слабость была: попадет в хорошую компанию и тут же рубаха-парень делается. И стихи у него появляются, и песни — немножко поддавался компанейскому влиянию. А у Рудзутака свои компании появились — из обывательской публики. И что он там делал, даже трудно понять. Он так в сторонке был, в сторонке. Со своими людьми, которые тоже любят отдыхать. И ничего не давал такого нового, что могло помогать партии. Понимали, был на каторге, хочет отдохнуть, не придирались к нему, ну, отдыхай, пожалуйста. Обывательщиной такой увлекался — посидеть, закусить с приятелями, побыть в компании — неплохой компаньон. Но все это можно до поры до времени. Довольно гибкий человек, умел лавировать. С большевистским духом, безусловно. Ленин на него сослался в 1920 году. Дескать, мы, Политбюро, виноваты в том, что не обратили внимание на тезисы Рудзутака по профсоюзному делу, которые направлены против Троцкого. Видимо, ему нужна была какая-то опора — он ухватился. Но это написал не Рудзутак. Был такой Цыперович в Ленинграде, в профсоюзах. Он тоже был грамотный, интеллигентный человек. Они вдвоем защищали эти тезисы. Я думаю, что написал их Цыперович, но Рудзутак, видимо, чутьем уловил. Троцкий нажимал на административные методы работы профсоюзов, а тут уклон на общественно-идеологические организаторские методы — то, что Ленин считал основным для профсоюзов. Ленин говорил: вот видите, люди, работающие в профсоюзах, писали об этом, а вы загибаете, вам давай закручивай гайки, а вот вам то, что нужно, Рудзутак прав. Рудзутак сразу поднялся у нас. Но хвалить его я бы не стал. Трудно сказать, на чем он погорел, но я думаю, на том, что вот компания у него была такая, где беспартийные концы были бог знает какие. Чекисты, видимо, все это наблюдали и докладывали. Маловероятно, чтоб это было состряпано, маловероятно. В данном случае, маловероятно. Но надо сказать, он держался крепко при чекистах. Показал характер. Мы пришли в госбезопасность. Там я был, Микоян. По-моему, было несколько членов Политбюро. Был ли Берия, я сейчас не помню. Вероятно, он тоже был, он, как чекист, мог быть. Человека два-три были. Он жаловался на чекистов, что они применяют к нему такие методы, которые нетерпимы. Но он никаких показаний не давал. «Я не признаю ничего, что мне приписывают». Это в НКВД. Рудзутак говорил, очень били его, здорово мучили. Крепко стоял на своем. Его, видимо, здорово пытали. — Это через Берию проходило? — Не без него. — Неужели вы не могли заступиться, если вы его хорошо знали? — Нельзя ведь по личным только впечатлениям! У нас материалы. — Если были уверены… — На сто процентов я не был уверен. Как можно на сто процентов быть уверенным, если говорят, что… Я же с ним не настолько уж близкий человек был. Он был моим замом, по работе встречался. Хороший, умный человек. Но вместе с тем я вижу, что он своими личными делами очень занят, с кем-то там путается, черт его, с женщинами… Переходит пределы, член Политбюро и мой зам по Совнаркому, по транспорту. — Первый зам? — Нет, тогда еще не было первых замов. Рудзутак четвертым был. — А в чем его обвиняли? — Я уж сейчас не помню. Он: «Нет, все это неправильно. Я это решительно отвергаю. И меня здесь мучили. Заставляли. Я ничего не подпишу». — А это Сталину доложили? — Доложили. Нельзя оправдать. «Действуйте, как там у вас положено», — Сталин сказал. А Сталин хорошо относился к Рудзутаку. — И расстрелял? — Расстрелял. — А может, не было вины? — Но я за него не мог вполне поручиться, что он честно вел себя. Дружил с Антиповым, Чубарем. — «Правда» о нем сейчас хорошо пишет… — О Тухачевском тоже хорошо пишут. Его даже реабилитировали и восхваляют… Если судить по тому, что выяснилось на процессах, Рудзутак — активный участник правых — и в террористических планах, и в свержении ЦК и руководства, так что я считаю его виновным человеком, который проявил огромное упорство и сопротивление. Уже сам факт — не хочет говорить с чекистами. А с кем же он хочет говорить, если попал в такое положение? Я даже одно время высказывал некоторые сомнения, правильно ли он был осужден. Но когда почитал то, что раньше не читал… Процессы его разоблачают полностью как активного участника правых. А он действительно был связан лично с Рыковым и с Томским. Все было напряжено до крайности, и в этот период беспощадно надо было поступать. Я считаю, что это было оправдано. А теперь это было бы совершенно не оправдано. Или в период войны, когда все почищено, и потом подъем, общий подъем, тут уже опасности такой не было. А если бы Тухачевский и Якиры с Рыковыми и Зиновьевыми во время войны начали оппозицию, пошла бы такая острая борьба, были бы колоссальные жертвы. Колоссальные. И та и другая стороны были бы обречены. Сдаваться нельзя, надо до конца. Начали бы уничтожать всех беспощадно. Кто-нибудь бы, конечно, победил в конце концов, но обеим сторонам был бы очень большой урон. А они уже имели пути к Гитлеру, они уже до этого имели пути к нему. Троцкий был связан, безусловно, здесь нет никаких сомнений. Гитлер — авантюрист, и Троцкий — авантюрист, у них есть кое-что общее. А с ним были связаны правые — Бухарин и Рыков. Так они все были связаны. И многие военачальники, это само собой. Если уж наверху политические руководители дошли до Гитлера, так тут уже второстепенные роль играют, идут за ними — Тухачевские и прочие. Это могло бы начаться с того, что просто у них сомнения были, удержимся мы или нет, а потом превратили бы. нашу страну в колонию на какое-то время… — Но так нельзя, как с Рудзутаком… — Нельзя, нельзя, а вот вам другой случай. Я был у Берии в кабинете, Чубаря мы допрашивали. Он был мой зам, и его тоже обвиняли. Из рабочих, украинец, долго был на Украине Председателем Совнаркома, потом его зампредом сделали по Союзу и членом Политбюро. Он с правинкой был, мы все знали, чувствовали это, с Рыковым был связан личными отношениями. Очень осторожный, очень неглупый человек. Не особенно активный. На него показал арестованный Антипов, тоже мой зам, член ЦК, председатель Комитета советского контроля. Вот мы слушаем его, Чубарь сидит рядом со мной, еще не арестован. Его вызвали: посиди, послушай, вот о тебе будут говорить. Антипов был личным другом Чубаря. Моя дача была в одном направлении с дачами Чубаря и Антипова. Я вижу, что Антипов с женой бывают у Чубаря на даче. Антипов говорил, может быть, и врал: «Я вот тебе говорю, что ты мне то-то, то-то говорил!» Антипов тоже рабочий, из ленинградских большевиков, нелегальных. Я их обоих очень хорошо знал, и вот друг на друга показывают. Чубарь ему: «Я такую змею на своей груди держал! Змея на моей груди, провокатор!» — Но не поверили? — Но не поверили. — Антипову поверили? — Не столько, может быть, и не во всем поверили, я уже чувствовал, что он может наговорить… Сталин не мог на Чубаря положиться, никто из нас не мог. — Тогда получается, что Сталин совсем не жалел людей, что ли? — Что значит — не жалел? Вот он получил сведения, надо проверить. — Люди друг на друга клеветали… — Если бы мы этого не понимали, мы просто какие-то идиоты были бы. Мы же не были идиотами. Мы не могли этим людям доверять такую работу. В любой момент они могут свернуть. Если бы не применили жесточайших мер, черт его знает, чем то волнение кончилось бы. Кадры, люди аппарата государственного, мы до низов не добирались, до крестьянина, а вот как руководящий состав — как он ведет себя, нетвердо, качается, сомневается? Много очень сложных вопросов, которые надо разгадать, взять на себя… Вот я уверен. А мы не верим. Вот и говори… Моего секретаря первого арестовали, второго арестовали. Я вижу, вокруг меня… — А на вас писали, докладывали тоже? — Еще бы! Но мне не говорили. — Но Сталин это не принимал? — Как это не принимал? Моего первого помощника арестовали. Украинец, тоже из рабочих. Он сам не очень грамотный, но я на него надеялся, как на человека честного. Его арестовали, видимо, на него очень нажимали, а он не хотел ничего говорить и бросился в лифт в НКВД. И вот весь мой аппарат… Тридцать седьмой год очень тяжелый был. Но если б мы его не проводили, жертв было бы больше. Я в этом не сомневаюсь. Если бы они победили, то, само собой, очень большие жертвы были бы. — Знаете, что Хрущев о вас сказал? — говорит Шота Иванович. — Какую-то женщину вспомнил. 1937 год. Принесли список: женщины, осужденные на десять лет. Молотов зачеркнул и написал: «Расстрелять». — Это есть в докладе Суслова по китайскому вопросу, в 1961 году, кажется. Только вы не точно передаете. Он сказал, что в отношении одной фамилии женской моей рукой было написано решение, надо сказать, военное. Я должен к этому добавить: такой случай был. По решению, я имел этот список и поправлял его. Внес поправку. — А что за женщина, кто она такая? — Это не имеет значения. — Почему репрессии распространялись на жен, детей? — Что значит — почему? Они должны быть в какой-то мере изолированы. А так, конечно, они были бы распространителями жалоб всяких… И разложения в известной степени. Фактически, да. …Вышли мы с Полиной Семеновной из метро, так, в 1965 или в 1960 году, остановила нас дочка Рыкова. Она узнала Полину Семеновну. Ко мне она не подошла, не то что не подошла — поздоровались, но она с ней стала говорить. Так, в метро, немного среди публики поговорили, ничего особенного не сказала, но, во всяком случае, это так. Так мы встретились. 13.04.1972, 13.06.1974, 16.08.1977, 26.01.1986 Помощник Молотова— Вы рассказывали о своем помощнике, как его фамилия? — Могильный. Украинец. — Он погиб? — Он погиб. — Вы рассказывали, вроде бы в лифте его убили… В это время подломилась ножка у стула, на котором я сидел, и я чуть не свалился. — Не выдержала? — спрашивает Молотов, сидящий напротив меня на диване. — Не выдержала. — Можно заменить. Так и сделаем. Так и сделали. Я продолжаю разговор: — Что-то вы рассказывали о своем помощнике… — Его арестовали и потом говорили, я сейчас не помню, кто говорил, что будто он в лифт бросился… — То ли в лифте его убили, вы говорили… — Такой слух до меня дошел, но я не ручаюсь. Вот и все, что он сказал по этому поводу. А раньше я узнал, что этот помощник доставал Молотову по его просьбе материалы для оправдания невинно арестованных, в частности, по-моему, Тевосяна. Этого Могильному не простили… 19.04.1983 — Без крайностей ни Ленина, ни Сталина представить нельзя. Нет, нельзя жить, не только представить… 21.06.1972 — Военные сейчас говорят, что Сталин оставил нам великолепную армию. — Вот в том-то и дело. Я считаю, что мы должны были пройти через период террора, потому что мы уже больше десяти лет вели борьбу. Это нам дорого стоило, но иначе было бы хуже. Пострадало немало людей, которых не нужно было трогать. Но я считаю, что Берия сам бы не смог это сделать. Он выполнял указания, очень жесткие указания Сталина. — Неужели Сталин не мог додуматься, что так много людей не могло быть врагами народа? — Конечно, очень печально и жалко таких людей, но я считаю, что тот террор, который был проведен в конце тридцатых годов, он был необходим. Конечно, было бы, может, меньше жертв, если бы действовать более осторожно, но Сталин перестраховал дело — не жалеть никого, но обеспечить надежное положение во время войны и после войны, длительный период, — это, по-моему, было. Я не отрицаю, что я поддерживал эту линию. Не мог я разобраться в каждом отдельном человеке. Но такие люди, как Бухарин, Рыков, Зиновьев, Каменев, они были между собой связаны. Трудно было провести точно границу, где можно, остановиться. — Говорят, все сфабриковано. — Ну, это невозможно. Состряпать невозможно. Пятаков начинял Троцкого… — Их били — не всякий человек выдержит, одного побьют — он все что угодно на себя напишет. — Сталин, по-моему, вел очень правильную линию: пускай лишняя голова слетит, но не будет колебаний во время войны и после войны. Хотя были и ошибки. Но вот Рокоссовского и Мерецкова освободили. — А сколько таких погибло? — Таких немного. Я считаю, что эта полоса террора была необходимая, без ошибок ее провести было невозможно. Продолжать споры во время войны… Если бы мы проявили мягкотелость… Власов — это мелочь по сравнению с тем, что могло быть. Много было людей, шатающихся в политическом отношении. — Могли бы перейти на сторону Гитлера? — Не могли бы, я думаю, но колебания были бы очень опасные. 29.04.1982 — Этот период я считаю просто замечательным. Двадцатые, тридцатые годы. — Его называют кровавым. — Я не считаю кровавым. — Но кровь проливали. — Проливали. Но все сводить к репрессиям принято мещанством. Среди коммунистов их очень много, мещан. 14.01.1975 — Попросил в Ленинской библиотеке все, что написано Тухачевским. Да, всю литературу. Дали на другой день. Одно заглавие я знал по какой-то книжке «Вопросы современной стратегии» в 1926 году. Вот я говорю: «Дайте мне эту книжку и все, что написано после этого». Вначале там посмотрел, потом взял на дом. У меня и сейчас лежит здесь. Ничего такого нет, просто для меня было интересно, в каком виде, — он же не мог выступить открыто против. Это все доклады на больших собраниях. Вся его литература состоит из девяти брошюрок, не больше двадцати пяти — тридцати страниц каждая. Все наследство. Все, что дали, все, что у них есть. Каждая такая брошюрка в переплете. Я все это взял с собой. Все гениальные труды, интересно посмотреть. Я прочитал все эти книжки, там ничего-то читать нельзя. Курсивом набрано, что Сталин говорит, что Молотов говорит, что Ворошилов, вот все время наши имена. Это у него выступления на сессии Верховного Совета. А остальные четыре брошюрки я не взял, потому что там ротные учения, практические. Я не стал читать. А все доклады и выступления, включая 1935–1936 годы, все они официально восхваляют нашего брата, и ссылки только. И что мы всех немцев расшибем и так далее. Это все там, не придерешься. А сам создавал группу антисоветскую. — Но ему приписывалось, что он был немецким шпионом. — Тут границы-то нет, потому что политически он рассчитывал. Оказывается, до 1935 года он побаивался и тянул, а начиная со второй половины 1936 года или, может быть, с конца 1936-го он торопил с переворотом — и Крестинский говорит, и Розенгольц. И это понятно. Боялся, что вот-вот его арестуют. И он откладывать никак не мог. И ничего другого, кроме как опереться на немцев. Так что это правдоподобно. Я считаю Тухачевского очень опасным военным заговорщиком, которого в последний момент только поймали. Если бы не поймали, было бы очень опасно. Он наиболее авторитетный… Участвовал ли каждый из обвиненных и расстрелянных в том заговоре, который готовил Тухачевский? Я не сомневаюсь, что некоторые из них участвовали, некоторые могли попасть и ошибочно. Или сочувствовали. По-разному. А две основные категории: опасные люди в армии, хотя и авторитетные какое-то время, и такие, которые, конечно, могли выправиться и пойти по настоящему, правильному пути. Ведь был арестован, скажем, Рокоссовский. Он мог как-то попасть в эту компанию, я не исключаю. Еще можно найти некоторые другие факты, которые законно требуют проверки. Но что касается Тухачевского и наличия у него группы военных, связанных с троцкистами, правыми, готовящими заговор, тут сомнений нет. Ко мне подошел один гражданин, автор книжки о Тухачевском. Я ему: «А вы читали процессы?» — «Нет». Вот тебе и автор. «Он ведь реабилитирован?» — «Да, реабилитирован, но… А процессы вы читали? Есть стенограммы процессов, это документы, а где документы по реабилитации?» Глаза выпучил. Если ссылаться на троцкистов, то и Троцкий будет реабилитирован, — говорит Молотов. 08.03.1975, 16.06.1977 — Как все-таки получилось, Вячеслав Михайлович? — Знаете, вот получилось. Я все смотрю, с кем теперь беседую, все время у меня такое чувство, что люди удивляются всему, а если им готового нет, не обеспечено, иначе настроены. Хорошо, что борьба идет. Как хорошо, что новый кризис начинается! — Вот я другого не пойму, — говорит Шота Иванович, — антисоветскую пропаганду ведут, тот же сын Якира, освободили его, ну зачем это? — Жалко хлеб давать казенный. — Синявский уехал во Францию. — Вот это уж зря отпустили. Ев-евреев еще можно выпустить, черт с ними, не хотят, а русского выпускать — это, по-моему, слабость. У тех есть своя родина — пожалуйста. — Но тоже, какая родина? Израиль — буржуазное государство. — Пускай, наплевать на них. Они сами буржуазные, если они с нами не мирятся. Но назад не принимать — что у нас страна, гостиница, что ли?.. Вот пришлось Троцкого отпустить, а он антисоветчину там разводил. Я считаю, что все-таки правильно, что отпустили. Он бы больше будировал… — В двадцать восьмом — двадцать девятом можно было убить его? — Нельзя. Еще было бы пятно. И так с противниками… Все надежды на какие-то технические средства, а политика на втором плане. А политика — она решает. Да и сейчас убить Солженицына было бы нетрудно. Я считаю, что посадить было бы лучше. Это я допускаю. А если этот рой раз-раздавить, хлопот не оберешься. С этим надо бороться. Анатолий Кузнецов, ну чего стоит такой писатель? Ничего не стоит. Грош цена. И не жалко, что уехал. А с Сахаровым, конечно, надо считаться. Только, видимо, от него толку не будет, от его друзей, знакомых, окружения. И в известном смысле лечить надо людей, соответствующую среду. Не всегда это дается просто. 18.12.1970, 14.01.1975, 24.05.1975 — Вячеслав Михайлович, на Красной площади диссиденты демонстрацию устроили, распространяли антисоветские листовки… — То-то смотрю, одна колокольня упала уже. Потрясли землю. 18.08.1976 Еще о тридцать седьмом— Много, конечно, попало, — говорит Молотов. — Конечно, ошибки были при этом, но я не согласен, что это была неправильная политика. Несмотря на ошибки, это было необходимо. И потому мы теперь живем так благополучно. В партии никто не подымет голоса, так сказать, никаких оппозиций нет, правых и левых, — так почистили. — Сейчас появились диссиденты, при Сталине это было невозможно. — Как невозможно? Послы бежали. — Но об этом, кроме вас, никто не знал. — Тогда об этом не публиковалось, теперь раздувают. Не один посол даже сбежал. Я не все фамилии помню, но некоторые помню. Уехал за границу директор государственного банка, а это не шутка. Считался старым большевиком, Шейнман, я его хорошо помню и встречался с ним на заседаниях Политбюро. Но он усомнился, попросил разрешения уехать. Пожалуйста, уезжай. Но никаких антисоветских вещей он не допустил. Теперь уж он давно умер. Было, было… Диссиденты тогда тоже были, но такого шума вокруг них не было, потому что борьба была более открытая… Достаточны были Колчаки, Врангели, Юденичи, Деникины, Керенские и прочие меньшевистские, эсеровские, кадетские лидеры, не говоря уже о чехословацких. …Это (репрессии. — Ф. Ч.) насолило здорово. Но благодаря этому мы держались более-менее устойчиво, войны не было за эти годы, потому что внутренняя оппозиция, гниль, здорово была вычищена в это время. Но тут попались, конечно, и неплохие люди. Но оправдывать всех этих, даже членов Политбюро, — они-де такие были хорошие… В это время они уже были против, но что сделать? 21.12.1979 …Гуляем. Проходим возле дачи Растроповича. — Он не собирается вернуться? — спрашиваю. — Мне ничего не писал, — шутит Молотов. — Рядом жили почти. И Сахарова дача тут. Мне говорили, что, когда конгресс мира был в 1973 году, арабская делегация, из арабских стран, ну вот, группа из членов делегации зашла будто бы на дачу или на квартиру к Сахарову. «Можно повидать Сахарова?» — жену спрашивают. «Его сейчас нет». — «Так вот, вы ему передайте, что, если он еще будет так продолжать, мы ему яйца вырежем. Кастрируем». Это довольно, так сказать, информация правдоподобная. …Могу вам показать дачу сына Брежнева, — продолжает Молотов. — Солдаты строили. И другую — для дочери. Это наша гордость! — иронизирует Молотов. 24.72.1975 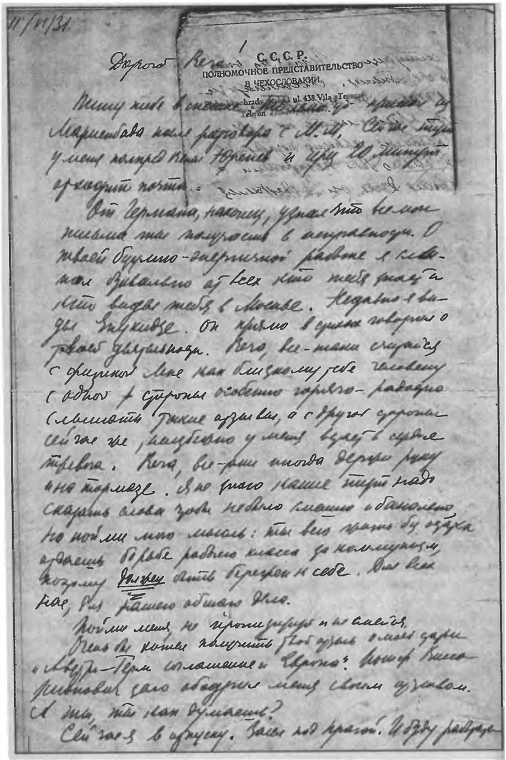 Письмо А. Аросева В. Молотову из Праги 11 июня 1931 г. — Бухарина и Рыкова в Питере в октябре 1917-го не было. Они москвичи, московская буржуазия. В Москве очень трудно проходило восстание. Очень, очень. Затянулось. Там в руководстве восстанием принимал участие мой очень близкий товарищ Аросев. Стал потом писателем. У меня были его книги с дарственными надписями. Был какой-то его юбилейный день, и я по глупости дал все это его старшей дочери… Несколько дочерей у него осталось. Актриса в «Сатире», писательница… Очень хороший человек. С детства, со школьных организаций, мы были вместе, с Казани. Мать у него расстреляна колчаковцами. После революции работал нашим послом в Чехословакии, я храню его письма из Праги. (Передо мной два письма А. Аросева к В. Молотову из Праги. Первое — от 11 июня 1931 года)
(Письмо написано на оборотной стороне бланка «С.С.С.Р. Полномочное представительство в Чехословакии» Второе письмо на пяти листках, вырванных из блокнота — зубчики остались.
Потом был зампредседателя ВОКСА. Пропал в 1937-м. Преданнейший человек. Видимо, неразборчивый в знакомствах. Запутать его в антисоветских делах было невозможно. А вот связи… Трудность революции. — Вы не знали об этом или как? — Как не знал, знал! — А нельзя было вытащить его? — А вытащить невозможно. — Почему? — Показания. Как же я скажу, мне давайте, я буду допрос, что ли, вести? Невозможно. — А кто добыл показания? — Черт его знает! — Может, сфабриковано все это было? Враги-то тоже работали. — Безусловно. Работали, безусловно, работали. И хотели нас подорвать. — Вы Аросева хорошо знали, преданный человек. Такие вещи не совсем понятны. — Вот непонятны, а это очень сложное дело, очень. Мою жену арестовали, а я был член Политбюро. — Выходит, тогда Сталин виноват в таких вещах? — Нет, нельзя сказать, что Сталин… — Ну а кто же? — Без него, конечно, не могли. У него было сложное положение, и столько вокруг него было людей, которые менялись… — Вы знали, Сталин знал с положительной стороны, а человек пропадал… — В этом смысле была очень жесткая линия. — А в чем Аросев провинился? — Он мог провиниться только в одном: где-нибудь какую-нибудь либеральную фразу бросил. — Мало ли что мы говорим! — Мог за бабой какой-нибудь, а та… Шла борьба[59]. У правых крепкое ядро было. Бухарин, Рыков, Томский — «тройка» крепкая. Напористо вели себя. Подписанные документы посылали в Политбюро: члены Политбюро Бухарин, Рыков, Томский. Сталин не либеральничал. Калинин в таких делах не либеральничал, поддерживал, но не брал на себя инициативу. 13.04.1972, 30.12.1973 Томский застрелился. На даче. Он из ЦК был исключен, но членом партии он был. К этому времени он уже сильно обюрократился, с моей точки зрения… Большевик до 1905 года. Потом шатался… В Петроградском и Центральном Комитете мы отстаивали мысль о создании особой газеты Петроградского комитета. Это летом 1917 года… В конце мая — начале июня 1917 года. И он исчез, когда было труднее всего. А потом объявился в Москве уже после Октябрьской революции. Вот вам видный деятель. Вот какой стойкий! Но хороший массовик… — Вот мы здесь, допустим, члены Политбюро, — говорит Шота Иванович, — один из нас исчез, пустое кресло. Говорили на Политбюро об этом? — Нет, — отвечает Молотов. — В Политбюро всегда есть руководящая группа. Скажем, при Сталине в нее не входили ни Калинин, ни Рудзутак, ни Косиор, ни Андреев. Материалы по тому или иному делу рассылались членам Политбюро. Перед войной получали разведдан-ные. Но все наиболее важные вопросы обсуждала руководящая группа Политбюро. Так было и при Ленине. Допрашивал ли Сталин Тухачевского? Нет, этого и не нужно было делать. — Как же вы допустили гибель ряда известных вам людей, не говоря уже о тех тысячах, что пострадали на местах? — Посмотрел бы я на вас на нашем месте, как бы вы справились, — отвечает Молотов. …День рождения Молотова. На столе белая скатерть, подаренная двадцать три года назад, на ней вышито: «Вячеславу Михайловичу Молотову в день 60-летия». Сегодня ему восемьдесят три года. 09.03.1973 «Я пишу после каждого съезда…»— А сейчас я вам расскажу свои новости. В прошлый вторник меня вызывали в парткомиссию. Беседовал с завотделом по поводу заявления о восстановлении в партии. Он спросил, нет ли у меня чего добавить к заявлению. «Нет». «Ваше отношение к политике тридцатых годов?» «Я несу ответственность за эту политику и считаю ее правильной. Я признаю, что были допущены крупные ошибки и перегибы, но в целом политика была правильной». Первое обвинение, которое мне было предъявлено, — злоупотребление властью в период тридцатых годов. Второе обвинение — участие в антипартийной группе. «Да, мы допустили определенную групповщину, но мы хотели снять Хрущева, что впоследствии партия и сделала. Мы считали, что это надо было сделать на несколько лет раньше». Завотделом больше ничего не спрашивал и не комментировал. 17.08.1971 — Я пишу после каждого съезда в ЦК: прошу рассмотреть мое заявление о восстановлении в партии. Один раз меня вызывали — после XXIV съезда партии. Я и пиг шу после съезда, чтобы новый состав ЦК рассмотрел новыми глазами. Выслушали. Поскольку я сказал, что я считаю политику тридцатых годов правильной, несмотря на ошибки, которые были допущены, — «подтвердить старое решение», и все. Тут же мне, конечно, дали отпор: видимо, Молотов не знает, как в жизни происходит дело, оторвался. Догматиком уже не называли, это Хрущев говорил: догматик. Я ни в одной оппозиции не был, я всегда был активным, на виду. Конечно, я допускал ошибки, это я тоже не могу отрицать. Ленин тоже допускал ошибки и признавал. Сталин сказал, что можно построить коммунизм в одной стране. Это, конечно, противоречит марксизму-ленинизму. На XVIII съезде. Я и тогда был против этого, но промолчал. А как сделать? Просто меня бы как пушинку вышибли, все — ура, ура! — всем хочется коммунизма. Сталин хотел показать, что он шаг вперед делает. Вот и в Программе тоже. 29.04.1980 — А я сегодня был в Комиссии партийного контроля, — тихо сказал Молотов. — По поводу восстановления меня в партии. Сегодня я второй раз был. Оставили в силе прежнее решение. Меня вызывали пятнадцатого июля по поводу моего заявления на съезд о восстановлении в партии. Там член комиссии прочитал доклад — оставить в силе прежнее решение. Я не очень был подготовлен к ответу и попросил дать мне почитать этот доклад. Вот сегодня и ездил. Мотивируют злоупотреблением властью. В докладе этого члена комиссии (фамилии не помню, русская такая, несколько неуклюжая фамилия) говорится, что в период тридцатых годов было произведено один миллион триста семьдесят тысяч арестов — слишком много. Я ответил, что надо с этим разобраться, что действительно были незаслуженно пострадавшие, но и без этих суровых мер мы не могли обойтись. Вот, скажем, Тухачевский — на каком основании его реабилитировали? Вы читали процесс право-троцкистского блока в тридцать восьмом году, когда правые объединились с троцкистами? Когда судят Бухарина, Крестинского, Розенгольца и других? Там же прямо говорится, что Тухачевский торопил с переворотом в июне 1937 года! Говорят — не читали, но, мол, все это делалось под нажимом чекистов. А я говорю: если бы мы не провели такие аресты в тридцатых годах, у нас война была бы с большими потерями. Сегодня я прочитал доклад, написал: «Ознакомился. Напишу письменный ответ». Я решил ответить письменно, для меня, конечно, не безразлично, что меня не восстановили в партии, но я хочу, чтоб осталось у них письменное мое отношение к репрессиям. Я уж не сказал им, почему они в таком случае не исключили из партии Сталина после смерти! — Сейчас один Калинин хороший. Даже Дзержинский допускал крупные ошибки — по Брестскому миру, в профсоюзной дискуссии. А Калинин, наверно, не был столь активным? — Да. Мне один рабочий говорил, что Калинин перед первой мировой войной собирался открыть пивную лавочку. — А пишут, что он вел кружок нелегальный. — Это возможно. Я тоже вел нелегальный кружок, и Калинин у меня занимался. — Калинин действительно был авторитетным или таким показным? — Он больше был для народа… И был преданным Сталину. Он был особенно близок для крестьянства, поскольку для крестьянства других большевиков не было. Он хороший человек был, безусловно. Качало его немножко вправо, но он от нас старался не отбиваться. И Ворошилов к правым качался… Армия-то крестьянская. — Но почему, если вас не восстанавливают в партии, во всех энциклопедиях пишут, что вы — член КПСС с 1906 года, и ни слова об «антипартийной группе»? — В том-то и дело. Я в четырех или в пяти энциклопедиях видел. Видимо, неудобно им писать, что я исключен. Обо мне пишут сейчас, я бы сказал, в нейтральном смысле. Вот только в истории партии под редакцией этого, как его, кандидата в Политбюро, международника… 22.07.1981 — Хрущев заявил на XXII съезде, что якобы Молотов, Ворошилов и Каганович признали решение суда по делу Тухачевского и других неправильным и согласились с реабилитацией Тухачевского и других… — Нет, — твердо отвечает Молотов. — «Когда мы на Президиуме ЦК, — говорил Хрущев, — занимались разбором этих дел и нам доложили, что ни Тухачевский, ни Якир, ни Уборевич не совершили никаких преступлений против партии и государства, то мы тогда спросили Молотова, Кагановича и Ворошилова: «Вы за то, чтобы их реабилитировать?» «Да, мы за это», — ответили они. «Но вы же и казнили этих людей, — сказали мы им с возмущением. — Так когда же вы действовали по совести: тогда или сейчас?» Это Хрущев. — Понимаю. Я допускаю, что Тухачевский неправильно себя вел и оказался в положении врага не только Сталина, но и партии. Но у меня документов таких не было. А я кое-что помню из этого периода… — Хрущев спрашивал, были ли вы согласны их реабилитировать? — Нет. — «Вы за то, чтобы их реабилитировать?» — «Да, мы за это», — ответили они». — Я — нет, тем более, не согласен. — То есть Хрущев извратил ваши слова? — Да, безусловно. На него ж надеяться нельзя. Он бессовестный человек. Неточен. Примитивен очень. При мне не обсуждался этот вопрос. (Примерно то же самое мне рассказал Л. М. Каганович в беседе: «Хрущев не ставил нам таких вопросов, и ничего подобного не было». Л. М. Кагановичу девяносто семь лет, голова ясная, память хорошая, как и у Молотова в этом возрасте. — Ф. Ч.) 09.12.1982, 09.05.1985 «Любимая резолюция»Приехал к В. М. в Жуковку в семнадцать ноль-ноль, тепло, дождик плюс тринадцать градусов. Когда вошел в коридор, В. М. спускался справа по лестнице. Он в новой голубой рубахе. — Как на губернском празднике, — говорю, поздоровавшись и расцеловавшись. — Стараемся, — отвечает Молотов. — Кто теперь лучший из поэтов? — спрашивает он. — Лучшие умерли, — отвечаю. — Мартынов умер? — Умер. Ушли Твардовский, Смеляков, Тихонов, Пастернак… — Пастернак тоже умер? — Умер давно. Молотов забыл об этом. Или не уследил. Я рассказываю ему о том, что у нас в издательстве «Советская Россия» выходит сборник «Критика 20-х годов». Один из авторов — Н. Осинский. В 1921–1923 годах он был заместителем наркома земледелия, в 1923–1924 годах полпредом в Швеции, в 1929 году работал заместителем председателя ВСНХ. Литератор, критик. — Это его псевдоним, — говорит Молотов. — Настоящая его фамилия Оболенский. Валериан Валерианович. С аристократической такой замашкой. — А статьи интересные писал? — Все-таки, конечно, небезынтересные, потому что он человек культурный и начитанный. Писал в «Правде». Он правый, но с капризами. — Оппортунист? — Оппортунист. Он о себе был очень высокого мнения. Старался — не получалось. А так — не нашел себе дороги. — Вы знали его? — Довольно хорошо, да. — Я и подумал, раз он такие посты занимал, значит, вы должны его знать. — Да, да. Он придерживался демократического централизма, как тогда говорили. Теперь это неизвестно. Московские большевики входили туда. — А как он закончил жизнь? Настораживает год смерти — 1938-й. Не попал ли он? — Возможно. Я не знал. Он был в демократическом централизме — неизвестно вам про это? Корчил из себя много. Оболенский. Из дворян, конечно. — Год смерти — 1938, — повторяю я. — Наверно, он был арестован. Он с Бухариным был связан. Не всегда удачно поступал. Он неудачник… — Мне кое-кто говорит: ты лучше спроси у Молотова о его любимой резолюции 1937 года в верхнем углу листка: «Расстрелять»… Я не знаю, была ли такая резолюция? — Конечно, были допущены ошибки серьезные, — отвечает Молотов. — Но я считаю, что это было необходимо. Это, я считаю, неизбежность. — Но вам давали эти списки, вы подписывали? — Да, давали. — Наверно, крупных лиц? — Большей частью такие, конечно. Был период, когда пошли такие оппозиционеры, как Троцкий, Зиновьев, Каменев, вот такого направления. Бухарин, Рыков, Томский… Много лет члены Политбюро. Ну, может, не много лет, но все-таки порядочное количество лет, и они имели влияние, у них были сторонники. Старался Шверник— Вот в чем обвинял вас Шверник на XXII съезде… — Ну, ну. Читаю Молотову отрывок из речи Н. Шверника:
(Что любопытно: Молотов в этом перечне идет первым, а не как в официальном сообщении «Об антипартийной группе Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова». К тому же назван полный состав «группы» — в 1957 году Хрущев побоялся это сделать. — Ф. Ч.) — Все Политбюро почти, — говорю я Молотову. — И главное, с чего вы пытались сбить партию, как говорит Шверник, — с Программы, по которой мы должны жить при коммунизме в 1980 году! — Да, да, — говорит Молотов. Мы дружно смеемся. — Теперь это уже смешно, потому что Программа провалилась полностью. — Меня особенно осуждают, — говорит Молотов. Я продолжаю читать вслух речь Шверника:
— Старался Шверник, — замечает Молотов.
— Так называемыми, — усмехается Молотов.
— Это факт, — подтверждает Молотов спустя сорок пять лет. — Прикрывались. 09.12.1982 Беседа с маршалом ГоловановымСегодня поехали к Молотову в Ильинское с Шотой Ивановичем Кванталиани и Александром Евгеньевичем Головановым. День выдался теплый. Голованов высоченный, в темной куртке, без шапки, Шота среднего роста, широкий, тоже без шапки. Мы сели в усовскую электричку. Я достал свежий номер «Комсомолки» — интервью с Г. К. Жуковым. Корреспондент В. Песков задает вопрос: «Не было ли опасным держать управление решающим сражением так близко от фронта?» Речь идет о штабе Западного фронта в деревне Перхушково во время Московской битвы. Жуков отвечает: «Риск был. Ставка мне говорила об этом. Да и сам я разве не понимал? Но я хорошо понимал и другое: оттяни штаб фронта — вслед за ним оттянутся штабы армейские, дивизионные. А этого допустить было нельзя…» — Врет! — резко сказал Голованов и отбросил газету на скамейку электрички. — Он ставил перед Сталиным вопрос о том, чтобы перенести штаб Западного фронта из Перхушкова за восточную окраину Москвы, в район Арзамаса. Это означало сдачу Москвы противнику. Я был свидетелем телефонного разговора Сталина с членом Военного совета ВВС Западного фронта генералом Степановым — тот поставил этот вопрос перед Сталиным по поручению командования фронтом. Сталин ответил: «Возьмите лопаты и копайте себе могилы. Штаб Западного фронта останется в Перхушково, а я останусь в Москве. До свидания». Кроме Степанова об этом знают Василевский и Штеменко. Жуков есть Жуков, но факт есть факт. А при встрече скажет, что либо такого не было, либо корреспондент не так написал, — усмехнулся Голованов. Ехали около часа, говорили о самолете Як-40 — мне довелось участвовать в его летных испытаниях два года назад. О гибели Юрия Гагарина… Когда мы сели с Молотовым за стол, подъехал старший внук Сталина Евгений Джугашвили, и более пяти часов шел интересный разговор. Приведу его некоторые отрывки — все заняло бы очень много места. — Принимаю гостей, — говорит Молотов, — встречаемся, хотя гостей у меня бывает немного. — Это неплохо, когда гостей немного, — замечает Голованов. — Так тоже плохо. Нельзя без людей. — Приходят письма, есть хорошие, а вот злые очень интересно читать. — Они больше от души, — соглашается Молотов. — Мне какой-то повадился даже в стихах писать: жена у вас в земле, почему же и вы не в земле? И подписывается, грамотный человек: «Искренний доброжелатель». Знает адрес, все как полагается. Без борьбы не обойдешься в политике. Всего-то коммунистов в Октябрьской революции было немногим более двухсот тысяч. Считается, по-моему, наиболее правдоподобной цифра двести сорок тысяч. Все-таки сто пятьдесят миллионов населения, больше половины неграмотных, надо строить социализм, а кругом враждебное окружение. И внутри. И как-то надо вытащить такую страну на большую дорогу. Тут, если не использовать даже временных союзников, даже на четверть союзников, никакого дела не будет. А своими руками они коммунизм не смогут построить. 1937 год — без него бы мы тоже не могли обойтись. Поставьте у власти самых святых людей, и пусть бы они прошли так, одними разговорами мимо этих периодов, ничего бы у них не вышло, развалилось бы все. Тут без жестких мер против ярых врагов не обойтись. Но попало и не врагам. — Да, — соглашается Голованов, — тридцать седьмой год, он при борьбе с «пятой колонной» перерос, перехлестнулся, конечно. — А без этого опасность была бы большая. Куда бы повернул Тухачевский, никому не известно. — А вот я, между прочим, об этом говорил или не говорил? Климент Ефремович, я с ним разговаривал о Тухачевском, эта личность меня довольно сильно интересовала, так вот он мне сказал: «Тухачевский — я ему никогда не верил и не верю». — Верно, это так. Но не использовать таких лиц — тоже неправильно. А вот до каких пор можно использовать, тут можно и ошибиться: либо слишком рано с ними разделаться, либо слишком поздно. — Складывается мнение, что Тухаческий был антисоветским, — говорит Кванталиани. — Трудно сказать. Но то, что он был не совсем надежным, — это безусловно, — отвечает Молотов. — Он был связан с Рыковым? — С Рыковым был связан, безусловно. — Тогда он был главной ударной силой правого уклона. — А это очень опасно. — Он на квартире у Рыкова часто бывал? — Ну, это еще ничего не значит — на квартире бывал! — говорит Голованов. — Я тоже бывал у Рыкова, и Сталин бывал, — подтверждает Молотов. — Здесь дело не в одном Тухачевском, — говорю я. Голованов: — Если взяли, скажем, Тухачевского, ну тыщу, ну две, ну десять тысяч, ну сто тысяч — тут число перевалило, а самое главное, перевалило оно против всякого желания сверху, люди же стали писать друг на друга, и черт-те кто, уже и сволочь всякая… — Много было ошибок, много, — соглашается Молотов. — В 1938 году ведь сам же Сталин вынужден был сказать, что тут что-то не то, надо разобраться… — говорит Голованов. — Я сам являюсь человеком, который оказался, так сказать, не в стороне от этих ударов. Меня исключили из партии, я чудом избежал ареста, был безработный, всей семьей голодали, буханку хлеба делили на неделю; мужа моей сестры, известного чекиста, расстреляли, — я прямо пишу об этом в своей книге. У меня было такое мнение, что Сталин все вершит, крушит. А вот когда встретился с ним, поработал не один год, увидел, что это совсем не то, — человек он такой, как я о нем пишу. И то, что именно я или Константин Константинович Рокоссовский, тоже пострадавший в тридцать седьмом, — да еще как! — такого высокого мнения о Сталине, особенно неприятно для многих, не дает полностью затоптать его. Когда Хрущев попросил Рокоссовского написать какую-нибудь гадость о Сталине, тот ему ответил: «Товарищ Сталин для меня святой». На другой день Константин Константинович пришел на работу, а в его кабинете, в его кресле уже сидит Москаленко и протягивает ему решение о его снятии. Вот так делается. Рокоссовский говорит: «Встану утром, сделаю зарядку и вспоминаю, что мне некуда идти. Мы сейчас никому не нужны, даже кое-кому мешаем изобразить все по-своему». Однажды на правительственном приеме произнесли тост за Никиту Сергеевича, и все потянулись к нему с рюмками, даже хромой Мерецков, а мы с Рокоссовским где-то в серединке стояли, разговаривали, так и остались стоять, — наверное, это заметили, потому что мы там самые длинные были, и больше нас на такие приемы не приглашали… А если о тридцать седьмом годе хотите узнать мое мнение, я считаю, что это было народное бедствие. Пострадали миллионы людей, но то, что Сталин на сто процентов виноват, сказать нельзя. Кто у него были главные помощники? В армии Мехлис, а по гражданским делам, по московской партийной организации — Никита Сергеевич Хрущев, и пятьдесят четыре тысячи человек на Украине он на тот свет отправил, он же был председателем «тройки», он подписывал эти документы! Конечно, Сталин как главный руководитель нашего государства, несет политическую ответственность за это, но сказать, что это творилось персонально, по каждому человеку, с его санкции, такого мы сказать не можем. Говорить о тридцать седьмом годе и не сказать о пятилетках, о политической борьбе внутри партии, о террористических актах, которые творились кругом, не сказать о том, как прошла Великая Отечественная война, — эти же вещи нельзя допустить. Я вам скажу следующее дело, — продолжает Голованов, — я был в ЦК партии, говорю: «Тридцать седьмой год мне ясен, это все было на моих глазах, и я видел, как это делалось. А вот как насчет «ленинградского дела»? Я уже к тому времени с товарищем Сталиным не общался, не знаю». Мне отвечают: «ленинградское дело» организовано за спиной Сталина». Ну, думаю, раз за спиной Сталина, то тут, наверно, действовали три неразлучных друга — Берия, Маленков и Хрущев. Ходит такая версия, что якобы Сталин называл Вознесенского как фигуру, которая сможет после него руководить партией, государством. — Я не слыхал об этом, — говорит Молотов, — Я недостаточно в курсе этого дела. Имею только свои предположения. Сказать, что это было при Сталине и без ведома Сталина — нельзя. В «ленинградском деле» был какой-то намек на русский национализм. Всей картины я не представляю полностью, но знаю, что была одна такая штука, которая обсуждалась и вызвала возмущение Сталина. Без ведома ЦК некоторые товарищи затеяли Всероссийскую ярмарку в Ленинграде. Вознесенский, как зампредсовмина и Госплана, поощрял это дело. Видимо, была какая-то попытка или намек создать группировку на экономической, так сказать, деловой, практической почве. Стали между собой сговариваться ленинградцы и горьковчане. Вознесенский в центре. И не доложили, обошли Сталина. А что было доложено в госбезопасность, я просто не в курсе дела. Видимо, истолковали как попытку создания легальной группировки на почве экономических и торговых дел. У меня не было представления, что это какая-то оформившаяся группа, но, возможно, начали подсовывать материалы, документы… Надо иметь в виду, что Берия боялся Вознесенского и очень был против него. А Вознесенский, безусловно, очень подготовленный, крупный работник, но претендовать на руководство партией он никак не мог. Сталин его сделал первым замом по Совету Министров, Берии это очень не понравилось. И потом мне Берия говорил по телефону, что были у Сталина, убедили его, что это неправильно, и Сталин тоже пришел к такому выводу. Вознесенского сняли с первых замов. Видимо, в это время чекистские органы подготовляли какой-то материал, — что там было, не могу сказать. А Маленков туда ездил, конечно, по указанию Сталина, сам он в таких делах ничего самостоятельно не мог предпринимать. Он был хорошим, честным исполнителем. Никто из нас в таких делах не мог решать самостоятельно. Маленков тут стал козлом отпущения. Знаете, Вячеслав Михайлович, — продолжает Голованов, — я очень внимательно вас слушал. Я, конечно, не знал всех деталей, но мимо Сталина это не могло пройти при существующей системе. Когда мне было сказано «за спиной» — это же страшное дело! И притом, когда на Сталина, как говорят, вешали всех собак, «ленинградское дело» почему-то всегда в стороне оставалось, для меня этот вопрос темный. Я все-таки десять лет в ЧК проработал, на вопросах разведки и контрразведки, на самом горячем месте, — оттуда вся закалка у меня, и я считаю, что только ярмарка послужить причиной не могла. — То, что у меня осталось в памяти, — какая-то группа создалась. В последний период при Сталине Берия меня уже плохо информировал. Я был немного в стороне и при Хрущеве тем более не был в курсе некоторых дел. При мне не обсуждалось о Вознесенском. Я знаю, что Берия очень ревниво относился к Вознесенскому, оба из группы ровесников, поколение, идущее позади меня, но выдвигающиеся люди. Тут могла быть и кое-какая ревность, и свои карьеристские соображения. У Вознесенского есть книжка об экономике во время войны. Вот что он успел. Но он мог написать, конечно. Имел и свои недостатки, но я бы сказал, что, конечно, покрупнее, чем какой-нибудь. Он выдвигался, безусловно, вперед. Вознесенский, молодой, активный человек, и, конечно, Берия мог бояться конкурента. — Мне один читатель — говорю я, — в письме прислал такую фразу: «Сталин зря никого не расстреливал». — Что значит — зря? Слишком вольно. Я думаю, Вознесенского зря расстреляли. — И Кузнецова, наверное. — Кузнецова, да. Кузнецов ленинградский, по-моему, неплохой парень, был неплохой. Он мне нравился. Его я всячески поддерживал. Из тех, которых я знаю, он очень хороший. К нему Сталин хорошо относился, но вот эта группа Вознесенского… Запачкался ли он тут, я не знаю, а может быть, и некоторая торопливость была. Мне говорили, еще немного — и я бы тоже не уцелел. На кого же он мог опереться? И у меня были ошибки. Он сам говорил: «Кто ничего не делает, тот не ошибается». Да, конечно, я тоже виноват, хотя в то время я уже был отодвинут Сталиным. Но я держался более крепко, чем большинство других в верхушке партии. Но возложить на Кузнецова руководство партией — это выпустить из рук главное. Он мало подготовлен был к этому. А так, повторяю, человек хороший, партийный, глубоко партийный, не во всем разбирался. В «ленинградском деле» многое осталось не ясно. Да, партийные дела — это непростые дела. Я считаю, что с Вознесенским и Кузнецовым допустили ошибку. По-моему, ошибка. Хороший парень был Кузнецов. Особой активности не проявлял, не лез куда-то наверх, но честный, преданный человек и во время вражеского окружения Ленинграда держался неплохо. Желания отдохнуть не проявлял[60]. — Что, Сталина одурачить можно? — спрашивает Кванталиани. — Не в таком деле. — Я никогда ни от кого такого не слышал, — говорит Голованов. — Берия Сталина боялся, по-моему, больше, чем кто-либо другой. Я считаю, что Берия был величайшим интриганом. Верно, ему было далеко до Талейрана, но он мог творить все эти дела. Все члены Политбюро Берию физически боялись. Хрущев, Маленков и Берия во время войны были приятелями. — Но это была неглубокая дружба. — Берия решил, если Хрущев будет Первым, а Маленков Председателем, то он за ними… А Хрущев хитрее его оказался. — Хитрее, — говорит Молотов. — Если Сталин все знал, не полагался на глупые советы, то, значит, он несет прямую ответственность за невинно расстрелянных, — говорю я. — Немножко иначе. Одно дело — понимать идею, а другое — как проводить ее в жизнь. Надо бить правых, надо бить троцкистов, дается указание: наказать решительно. За это Ежов был расстрелян. Если отказаться от жестких мер, есть большая опасность, что в трудную минуту страна может расколоться, и тогда черт знает что выйдет, будут гораздо большие жертвы, миллионы жертв и — крах. Во всяком случае, острый кризис. — Все это правильно, — говорю, — Ежова расстреляли, а невиновных-то не выпустили. — А ведь там же много было и правильно арестованных. Разобрались, кой-кого выпустили. — В тридцать восьмом году выпускали, — говорит Голованов. — Но большинство-то осталось! — возражаю я. — Была назначена комиссия по вопросу о Тевосяне, когда его арестовали. В эту комиссию я входил, Микоян, Берия, может быть, кто-нибудь еще… Тевосян был членом ЦК, безусловно, честнейший человек, прекрасный специалист своего дела в металлургии, особо квалифицированный. Ну вот, показали на него, что он вредитель, что он фактически проводит вредительскую линию в нашей сталепромышленности. Он проработал в Германии у Крупна и с большим успехом, с настойчивостью проводил это дело, но на него пришло много показаний от специалистов и хозяйственников. По инициативе Сталина была назначена комиссия — проверить. Мы пришли в ОГПУ, выслушиваем показания. Приходит один инженер, другой, третий. Все говорят, что он вредитель, потому-то, потому-то, указания давал такие… А Тевсоян тут же сидит, дает ответы, разоблачает, кроет их вовсю! Мы сопоставили показания и убедились, что все обвинения — чепуха, явная клевета. Его оправдали, он остался членом ЦК, продолжал работать. Сталину доложили — он согласился[61]. К сожалению, после этого погиб мой помощник, который по моему поручению собирал документы для оправдания Тевосяна. — Солженицын пишет, — говорит Кванталиани, — что Сталин сам выдвинул Ежова и сам же заставил его перебить партийные кадры. — Это не так. Ежов был выдвинувшийся довольно крупный работник. Росту невысокого, худенький, но очень напористый, крепкий работник. А когда он оказался у власти, дали ему крепкие указания, потянуло его, и он стал рубить по плану. За это поплатился до него Ягода. Не сразу человек выявляется. Но тут наломали дров, конечно. Сказать, что Сталин не знал об этом, — абсурд, но сказать, что он отвечает за все эти дела, — тоже, конечно, неправильно. — Я такой точки зрения держусь, — говорит Голованов. — Петр Первый стоял во главе государства, верно, он Ленинград на костях построил, об этом, правда, много не говорят, говорят, что прорубил окно в Европу. Если б Сталин был живодером, ради своего садизма убивал людей, жрал их — это одно дело… — Некоторые так и считают, — говорю. — Но я-то его знал хорошо — никаким кровожадным тираном он не был, — говорит Голованов. — Шла борьба, были разные политические течения, уклоны. При строительстве социализма нужна была твердость. У Сталина этой твердости было больше, чем у кого бы то ни было. Была «пятая колонна»? Была, и речи быть не может! И конечно, были не стрелочники, а определенные деятели. Я себе не представляю такого положения, чтоб меня сегодня посадили, как Тухачевского, а завтра я дал такие показания, что я немецкий разведчик или польский резидент! Били? Да черт с ним, пускай бьют, пускай калечат! Людей подвешивали на крюки, а люди в морду плевали. И если б Тухачевский таким не был, он бы сказал. Если бы у него была воля, я думаю, дальше дело бы не пошло. И все сразу бы открылось. А если человек все сразу признал и на стольких людей в первый же день показал, да еще бенешевская фальшивка спровоцированная… А дальше все пошло своим чередом. Вон Рокоссовский — как его ни истязали, все отрицал, ни на кого не показал, ни одного не арестовали больше, в Шлиссельбурге сидел, выпустили. Константина Константиновича еще и за это особо уважают в армии. И у Сталина Рокоссовский был на особом счету. Кстати, после Сталинградской битвы он стал вторым человеком после Шапошникова, которого Сталин стал называть по имени-отчеству. Он считал Рокоссовского великим полководцем. Неспроста он командовал парадом Победы — честь по заслугам! Сталин спрашивал: «Константин Константинович, там били?» — «Били, товарищ Сталин». — «Сколько у нас еще людей «чего изволите», — сказал Сталин. И у меня Сталин пытался выяснить, кто меня исключил из партии. Я подумал: скажу ему сейчас, и завтра этого члена Политбюро не будет. Так и не сказал… Ведь как в народе — пишут, пишут. Как на Тевосяна заставили писать. Я видел тогда людей таких и сейчас знаю людей, которые прямо говорят: «Александр Евгеньевич, я написал на того-то, на того-то». — «Почему написал?» — «Боялся». — Правильно, — говорит Молотов. — Были и такие, что никто их не заставлял, а писали. Но вопрос рассматривается в общем. А если так, то надо и на частные вещи смотреть. Почему тот же Хрущев так себя вел? Выявлял врагов народа. К командиру дивизии на Украине, мне товарищи рассказывают, приезжает в гарнизон Хрущев, собирает народ: «Товарищи, кругом враги народа!» К командиру дивизии обращается: «Сколько ты врагов народа разоблачил?» Сажают, арестовывают. Вот вам подручные. — Хрущев принес Сталину списки врагов народа, Сталин усомнился: «Неужели так много?» — «Их гораздо больше, товарищ Сталин, вы не представляете, сколько их!» — У меня есть один товарищ, летал со мной бортмехаником, когда я был летчиком гражданской авиации, потом пошел учиться в Политическую академию, стал ученым, преподавал в Академии Генерального штаба, а когда начались вот эти разоблачения, его перебросили в Институт марксизма-ленинизма, и он там три года перебирал документы, искал подписи Сталина под расстрелами и прочее. И между прочим, ни одного такого документа не нашел. — Нет, можно найти, — говорит Молотов. — Мы вместе подписывали. Списки давали нам. Обсуждали вместе, по анкетам, во всех деталях. Сидят все члены Политбюро… В основном подписывали Сталин — по партийной линии и я — по советской, такие документы, после которых многим, конечно, несладко приходилось. — Военные мне говорили, что Хрущев тоже подписывал, — говорю я. — Безусловно, он подписывал… Я подписывал Берии то, что мне присылал Сталин за своей подписью. Я тоже ставил подпись — и где ЦК не мог разобраться, и где несомненно была и часть честных, хороших, преданных. Ну вот, пускай кто-то докажет, что нельзя было этого делать. Могут говорить те, кто в большевиках никогда не был до революции. — И Калинин подписывал? — спрашивает Кванталиани. — Калинин. И другие. Не на всех ставили подписи. Фактически тут, конечно, дело шло на доверии органам. — Конечно, на доверии, — подтверждает Голованов. — Иначе всех сам не можешь проверить. — Меня интересует письмо Бенеша Сталину, — говорит Кванталиани. — Вот что пишет об этом Черчилль:
— Не уверен, — говорит Молотов, — что этот вопрос правильно излагается. Бенеш был заинтересован в хороших отношениях с нами. Но не мог Сталин поверить письму буржуазного лидера, когда он далеко не всем своим вполне доверял. Дело в том, что мы и без Бенеша знали о заговоре, нам даже была известна дата переворота… — Я привез журнал Вячеславу Михайловичу, — говорит Голованов, — одиннадцатый номер «Октября», где уже описывается ваш полет в 1942 году. — Прошло уже? — Как прошло! Если б вы знали… — Со скрипом? — Скрип — не то слово. Вот уже два номера — девятый и одиннадцатый. Я же Брежневу написал записку, довольно такую, я бы сказал, злую. (Речь идет о мемуарах А. Е. Голованова «Дальняя бомбардировочная», публикация которых началась в № 7 «Октября» за 1969 г. — Ф. Ч.) Вот, довольно злую. И после этого, все-таки с большими огрехами, снова стали печатать. Надо вам сказать, повыбросили много. Кстати говоря, МИД выбросил знаете что? Всю предательскую политику Черчилля, его попытки помешать вашей встрече с Рузвельтом. Но основные вопросы, по которым мы с вами говорили, остались. Причем у меня есть данные из МИДа, что Майский возмущается… — А что Майский? Что о нем слышно? — Мне сказали, он считает, что это дело не рук Молотова, а дело его рук. — Ой, это же просто… И то, что он написал о себе насчет второго фронта, конечно, неправильно и некрасиво с его стороны. Он служил, выполнял указания — посол обязан это делать. Способный человек… — Я всю правду описываю, как вы с Черчиллем решали вопросы в отношении договора, как он отказывл-ся подписывать это коммюнике, как вы решили все это у Рузвельта, вернулись обратно в Лондон, и Черчилль вынужден был подписать. — В начале, в Англии, я перед отъездом подписал договор с Иденом, министром инстранных дел, а в Америке — коммюнике о взаимоотношениях в будущем и о втором фронте… А после Америки я приехал снова в Англию — надо было тоже подписать. — Все, как вы говорите, там изложено. Абсолютно так, потому что у меня кой-какие материалы есть, я товарищей поспрошал, потом мы с вами говорили, вы чисел уже особенно не помните, но смысл… Я там в конце написал, что данная поездка хоть и была сопряжена с явными неудобствами, риском и другими вещами, но она сыграла положительную роль в войне. Я Брежневу прямо написал, что меня под разными предлогами отказываются печатать. Могу я, состоящий в партии более сорока лет, отвоевавший четыре войны, писать правду о том, что я видел, чему был сам свидетелем? Верно, эта правда кое-кому не нравится. Если я эту правду могу писать, прошу, так сказать, дать соответствующие указания, если не могу, вы мне прямо сообщите, я писать не буду. Вежливо написал, но прямо вопрос поставил: или — или. Вызвали меня в отдел административных органов ЦК, больше двух часов говорили. Ну вот, снова стали печатать. Вырезают, правда, много… …Далее был долгий разговор и острый спор об экономике страны. Приведу отрывок — он, на мой взгляд, характерен для взглядов Молотова на эти проблемы. Спрашиваю: — Верно ли это: мы будем повышать реальную зарплату и по возможности оставлять цены стабильными? О снижении цен речи вообще нет. — Лучше было — снижение цен, — говорит Кванталиани. — Видите, лучше-то снижение цен, — отвечает Молотов, — но государству легче повышать зарплату. — А почему вы сразу после войны пошли на снижение цен? Почему каждый год, регулярно? — Мы тут с вами немножко не сходимся уже не в первый раз. Это был громадный моральный выигрыш. Громадный плюс. Но дело в том, что надо смотреть на вещи так, как они есть. Я бы, конечно, был бы заинтересован, чтобы приукрасить то, что было до войны, потому что к этому стоял очень близко. Но все-таки у нас все тридцатые годы тоже шло повышение цен. — Времена разные. Сейчас комсомольским работникам «Чайки» подают, а вы в телогрейках строили. Времена разные. — Разные, но надо все-таки быть объективным, не очень упрощать, Шота Иванович, так как надо сказать, что сейчас живут значительно лучше, чем до войны. Иначе и быть не может, за это мы и боролись, чтобы лучше жить. Конечно, кое-чего Достигли. Опасность есть другая: расширение неравенства. Вот беда, вот она где, язва, а не в том, что теперь хуже живут. Несмотря на то что теперь живут лучше в среднем и рабочие, и тем более крестьяне, есть очень отрицательный факт, что углубляется в стране неравенство. Это язва. — Диапазон зарплаты у нас 1:30. — Гэс Холл правильно говорит о Чехословакии — в «Правде» было опубликовано с сокращениями — о чехословацких событиях, когда мы начали принимать меры, он высказался за то, что правильно Советский Союз проводил вместе с другими странами вмешательство в чехословацкие дела, хотя итальянская компартия была против, французская — против, английская — против и другие. Он, все-таки в Америке находясь, верно сказал, что это было совершенно необходимое мероприятие, а что касается Чехословакии, то лучше было бы, если бы там в предыдущие годы помедленнее поднимался уровень заработной платы, но больше укреплялся бы социалистический строй. Вот дело в чем. А это у нас недостаточно понимают. Вот я о чем говорю. Подниматься он должен обязательно, без подъема жизни социализм не может, в этом его смысл. Но я тоже за то, чтоб уровень жизни поднимался пусть медленнее, но зато, чтоб укреплялся строй социализма, тогда нам ничего не страшно. Это самое главное. На этом мы в тридцатые годы и выиграли — при всех недостатках. — Сталин смело шел по этому пути? — Безусловно. Безусловно, больше, чем кто бы то ни было другой. Недостатков много было, конечно, при всем нашем желании, особенно у Сталина, который наиболее крепко проводил линию. Конечно, лучше было бы поднимать уровень жизни, снижать цены, ну пусть хотя бы стабильность, уже неплохо. А у нас и стабильности-то нет. Еще лучше, если б снижали цены, но центр тяжести я все-таки переношу не на этот вопрос, а на то — что неравенство. — Стабильность цен — это укрепление товарно-денежных отношений, а не ослабление их, как нужно для социализма. — Это необязательно, потому что товарно-денежные отношения не только в ценах. Это более сложный вопрос. И сама стабильность цен не говорит в пользу или против товарно-денежных отношений. Я за то, чтобы взять курс на постепенное уменьшение роли товарно-денежных отношений. А сама стабильность цен — она не мешает. — Но если мы не станем снижать цены на товары, как же мы будем ослаблять товарно-денежные отношения? — После войны не снижать цены мы не могли, но такой смелый, такой настойчивый курс, который проводился, — это, конечно, большая заслуга Сталина. Но эта линия недостаточна в настоящих условиях, поскольку идет расширение неравенства. — Стабильность цен — на бумаге. — А на деле — рост. Это, конечно, плохо. — Если мы возьмем процент прибавленной заработной платы и процент подорожания продуктов, то все получается шиворот-навыворот, — говорит Голованов. — Зарплата растет, а цены ее опережают. — Мы сами тогда скатываемся на потребительскую точку зрения, — отвечает Молотов. (Голованов смеется.) — Этим не убедишь тех, кого надо убедить, что пора кое-что менять. Не убедишь. — Напечатали директивы XXIV съезда, что мы за счет тридцати шести процентов повышения производительности труда увеличим производство на восемьдесят семь процентов, то есть выходит, если мы не сто процентов поднимем производительность, то производство сразу увеличим в три раза за год! — Неверно это. Вы берете цифры, но играете. «Если» — это предположение ни на чем не основано. — Почему? — спрашивает Голованов. — Дело в том, что производительность труда мы можем поднять только до тридцати семи — тридцати восьми процентов и каждый дополнительный процент до сорока, он очень труден. А как можно говорить о стопроцентной производительности? — Вячеслав Михайлович, я вас убью вашим же докладом на XVIII съезде партии, — говорит Голованов. — Что вы хотите сказать? В этих делах я в курсе дела. — То, что в вашем докладе главное внимание уделено вопросам производительности труда. То, о чем говорил Ленин, о чем говорят, но весь вопрос в том, что говорить — одно, а делать — другое. Кое-что в докладе Косыгина перекликается с вашим докладом. Производительность труда — на первое место. Бороться с прогулами, расхлябанностью — у вас это делалось. Предавали суду за двадцать минут опоздания на работу. Это дало реальные результаты. А сейчас из пяти миллионов строителей в нашем государстве полмиллиона каждый день не выходит на работу. Этого не было, между прочим. — Было, но в меньшем размере. — Вам отсюда не совсем все видно. — Наверно, не все видно. — То, что пишется и что делается, — это небо и земля, большая разница. Люди стонут, невозможно сделать то, что записано. Какова экономика, такова и политика. Лодырей до черта, прогулов до черта. Печь пустили к съезду, теперь закрыли. Цирк московский дал одно представление — закрыли. Я был в Усть-Илимске. Приписывают, рапортуют о выполнении. Нет сырья. А сырье — кооператорам. Замкнутый круг… Сталин говорил, что никакой пропагандой, никакой агитацией мы мировой пролетариат так просто вокруг себя не объединим, нам нужно показать, что люди в нашем государстве живут лучше, чем в Америке или другой стране капиталистической, — вот это будет лучшей агитацией, лучшей пропагандой. — Не повторяйте разговоры, которые идут, — говорит Молотов. — Я остаюсь при своем мнении. — Разве можно считать правомерным, что в социалистических государствах в два раза выше прожиточный минимум, чем у нас? Мы что, все время будем пояс затягивать? Я помоложе вас, я никогда не был в Политбюро, — говорит Голованов. — А при чем здесь? — Я это говорю не с той точки зрения, что вы пост большой занимали, а с той, что у вас кругозор шире, совсем другой. — А по существу? — Я считаю линию Сталина совершенно правильной, что в первую очередь надо ставить свое государство по материальному обеспечению населения. А сколько б мы с вами ни занимались пропагандой и агитацией… — Я с вами не совсем согласен, — сердится Молотов. — Вы упрощаете дело. И так Сталин не рассуждал, как вы ему приписываете! Так Сталин не рассуждал — так упрощенно. И так Ленин не мог рассуждать. И ни один человек, который согласен с марксистской позицией, не может встать на эту позицию. Вы равняетесь по плохим коммунистам, а надо по хорошим! — Я ручаюсь, что слышал это от Сталина. — Вы не так его поняли. Нельзя так рассуждать. Ваши цифры не точны. Я с вами согласен, что там уровень жизни выше — в полтора раза, сомневаюсь, что в два раза. Если мы собьемся с правильных соотношений, мы перейдем на слухи — это неизбежно. Я считаю, что уровень жизни у них выше, мяса едят больше, обуви у них больше, на сколько — я допускаю, в полтора раза. А я считаю, что мы заинтересованы, чтоб у них так было. Другой пример. Наши прибалтийцы живут на более высоком уровне, чем москвичи. И нам это необходимо. Это политика, соответствующая интересам Москвы. — Надо мне с вашим зятем Алексеем Дмитриевичем побеседовать — умный мужик, кладезь всех цифровых данных. Так, как вы говорите, я согласен. Мидовцы, крупные работники, я с ними встречаюсь, говорят: «Если б не Вьетнам, мы бы жили…» — Да вьетнамцы за нас кровь проливают! Это же надо понимать. Так говорят не настоящие коммунисты. — Сталин мне говорил после Тегеранской конференции, он приболел тогда, что, мол, обожествляют Сталина, святых людей нет, такого человека, как Сталин, конечно, нет, но если люди создали такого, если верят в него, значит, это нужно в интересах пролетариата и нужно поддерживать. — Был бы Сталин жив, советский народ жил бы куда лучше и Вьетнаму помогал бы в пять раз больше, с Китаем и Индией были бы отличные отношения, — говорит Голованов. — Мне это приятно слышать, но жили труднее, беднее были. Ленин в 1919 году говорил, что революция была рабочая, а выиграли от нее больше крестьяне. Но полная победа — если у нас в деревне все в порядке. Сознательный рабочий идет на это, а несознательного надо убедить, и рабочий выиграет только тогда, когда поведет за собой крестьянство. — Экономический базис — главное. Я не идеалист, но был бы Сталин, в Англии было больше, чем двадцать девять тысяч коммунистов, и наш рабочий класс жил бы лучше, чем у них, в два раза. …Молотов берег Программу партии, читает хрущевское положение о том, что если в других странах увидят, что мы лучше их живем, пойдут за нами. — Вы повторяете хрущевщину. Это потребительство да еще национализм. Если б большевики ждали, когда все станут грамотными, у нас и революции не было бы. Рабочие в западных странах живут лучше, чем мы, потому что буржуазия ограбила другие страны, не только свои. Десять рабов на одного англичанина. Рабочая аристократия. Если мы будем ждать или рассчитывать, что прежде поднимем свой уровень, а потом будут на нас равняться, мы не коммунисты, а националисты, которые занимаются только своими делами. Это хуже, чем хрущевщина, это утопизм. — Я от Сталина не раз слышал, — говорит Голованов, — категорически подтверждаю, что основа всего — это как живет народ. Но ведь ни у Маркса, ни у Энгельса не сказано, что, когда народ придет к власти, будут воровство, прогулы, пьянство, взятки, — подразумевалось, что общество будет без этого. Двадцать миллионов тонн зерна в прошлом году сгнило на полях. Покупаем за границей, платим золотом. Если не будет второй сталинской руки, никакого коммунизма мы не построим. Я считаю, что Сталин шел по правильному пути, и нам эту линию надо продолжать. Надо вскрывать язвы. А у нас?.. Я помню, как я в первый раз пришел к Сталину — давно это было. Помню, как во время войны он предлагал мне свою дачу: «Будем рядом жить, а то все говорят — великий, гениальный, а вечером не с кем чаю попить». Я отказался, а он говорит: «Бери, а то Василевскому отдам». А с Василевским у него была интересная история. Мне Александр Михайлович рассказывал, как Сталин пригласил и стал расспрашивать о родителях. А у него отец — сельский священник, и Василевский с ним не поддерживал отношений. «Нехорошо забывать родителей, — сказал Сталин. — А вы, между прочим, долго со мной не расплатитесь!» — подошел к сейфу и достал пачку квитанций почтовых переводов. Оказывается, Сталин регулярно посылал деньги отцу Василевского, а старик думал, что это от сына. «Я не знал, что и сказать», — говорит Василевский. Сколько у Сталина терпения было и на эти вещи! Звонит мне: «Вы там не спите? У вас ведь охраны нет, мы вам чекистов поставили». …Сколько я с ним спорил! Мне бы сейчас с ним поговорить — я тогда мальчишкой был! К сожалению, я вам должен сказать, что здравое мышление у людей приходит все-таки в солидном возрасте. — Иногда и в таком возрасте не приходит, — отвечает Молотов. Все смеются. — У меня не хотят печатать то, где говорится о Сталине как о военном теоретике, основоположнике ведения войны в новых условиях, — ведь это было на моих глазах, всю войну я почти каждый день у него бывал, а то и по нескольку раз в день! Я работал в подольском архиве. Жил там, и мне товарищи дали почитать произведение Москаленко — он тоже там работал. Сколько он грязи вылил на Сталина! А во время войны Москаленко называли «генерал Паника». Сталин говорил, что у него нет лица. Жуков говорил: «Александр Евгеньевич, мне генерал Паника звонил!» Вот я вспоминаю встречи, разговоры со Сталиным, сколько раз по тем или иным вопросам — все это мимо ушей! Когда стало вспоминаться? Когда на Сталина стали лить всякую грязь. Я удивляюсь не тому, сколько погибло при нем народу, а как он сумел еще это остановить! Ведь общее настроение было такое, что могли полстраны уничтожить сами своими руками. И думаешь, черт побери, как у нас, в нашей России бывает! Думаешь о прошлых временах, о Петре Первом и видишь: все повторяется. История, по-новому, но повторяется. Не раз я вспоминал, сколько Сталин говорил, что бытие определяет сознание, а сознание отстает от бытия! И думаю: ведь, по сути дела, мы должны мыслить коммунистически. А мыслится XVII веком: как бы кого спихнуть! — Ленин боялся силы денег, — говорит Кванталиани. — Высокое жалованье развращает людей. — При Сталине тоже жалованье давали, деньги, все, — продолжает Голованов. — Но такого, как сейчас, кто из нас мог подумать, слушайте! В мыслях не было. А сейчас, только занял какой-нибудь пост, скорей строить дачу. Каждый хапает кругом. Ленин, я часто думаю об этом, говорил следующее: ни одна сила Советской власти не подломит, кроме бюрократизма. Но этот бюрократизм, оказывается, порождает целую серию всяких других пороков… Я дважды звонил Суслову насчет Китая. Нельзя так себя вести со страной, о которой еще Ленин говорил. Надо поправить это дело. Главным виновником после Хрущева я считаю Микояна. Когда сняли Хрущева, Брежнев надеялся, что Микоян поправит, а он на вопрос Чжоу Эньлая ответил, что отношение в ЦК к Китаю прежнее. А он уполномочен был вести переговоры. Суслов говорил, что Мао Цзэдун написал, чтоб убрали Хрущева из ЦК. «Так ведь наш ЦК это и есть Никита Сергеевич!» — ответил Суслов. Фигура Суслова — мрачнейшая на фоне деятельности нашей партии. Такого хамелеона… — Суслов был сталинистом… — говорит Молотов. — И выступал при снятии Хрущева, — добавляю я. — Внес первым предложение сделать Брежнева Героем Советского Союза. — Вообще политика, говорят, вещь нечистая, — замечает Голованов, — но все-таки порядочность должна быть. — Это обывательское мнение, что политика нечистая вещь, — возражает Молотов, — Ленин нечистый человек? Он был политиком, и мы не считаем, что он нечисто вел. — Сталин говорил Светлане, — вступает в разговор Евгений Джугашвили, — что политика — грязная вещь. — Это кухонный разговор, — не соглашается Молотов, — Не мог Сталин гак сказать. Занимался всю жизнь политикой, «грязная вещь»… — Вячеслав Михайлович говорит, Сталин был очень осторожен в словах, — примирительным тоном добавляет Кванталиани. — Я четыре года там прообщался, — говорит Голованов, — а Вячеслав Михайлович всю жизнь с ним, сорок лет. Сталин, не дрогнув, бровью не поведя, расправлялся со всякими проходимцами и прохвостами, причем без всяких возмущений, вот что интересно. Но к людям он относился, я считаю, очень хорошо. — Да, — подтверждает Молотов. — Я много думал, мы с Вячеславом Михайловичем не виделись долго. Сталин умер, потом не виделись, я думал, какую линию займет Молотов, потому что из всех членов Политбюро именно ему, а не кому-нибудь пришлось при Сталине нести всю основную тяжесть на своих плечах. И я должен прямо сказать: неизвестно, что было бы с Вячеславом Михайловичем, если бы Сталин еще пожил. — Да. — И надо сказать, что сейчас Вячеслав Михайлович, несмотря на то что ему пришлось перенести очень серьезные переживания, все-таки в отношении к Сталину объективен, справедлив. Шушукали на ухо. тем более это шушуканье шло от Берии… Слава богу, что вы все-таки… — Я ведь не случайный член партии, — говорит Молотов. — Я не переживал и сотой доли того, что вы переживали. Сталин умер, меня уже через три дня не было. Меня вызвали, обрабатывали и должности предлагали. Я честный человек, и оговаривать человека, с которым вместе работал… — В народе ходит разговор, что вы не отдали партбилет и регулярно посылаете взносы… — говорит Джугашвили Молотову. — Нет, это неправда. Дело не в партбилете. До революции их вообще у нас не было. Потом у Ленина был номер один, у Сталина — номер два, у меня — номер пять… — Я был делегатом на седьмой Московской партконференции, Егорычев рассказывал нам, как исключали из партии Молотова, — говорит Голованов. — Если бы вы написали, признали, покаялись, вас бы и в партии восстановили! Я вот пишу, в некоторых местах, может, идеализирую, но думаю, что все это на пользу, на пользу молодежи. Вы человек осторожный в определениях, я человек более молодого поколения… Выглядите вы хорошо. Когда вы были Председателем Совета Народных Комиссаров, потом первым замом, министром иностранных дел, у вас всегда был такой желтоватый цвет лица, видно, что человек день и ночь работает. Меня везде спрашивают: как он себя чувствует? Я вам скажу следующее дело: вы сейчас выглядите лучше, чем раньше. — Я неплохо сплю, ложусь в одиннадцать вечера, читаю на ночь беллетристику, встаю в полседьмого, днем сплю минут тридцать-сорок. Мало, но неплохо. Обновляется мозг, приливанье крови[62]… Дважды гуляю по лесу. В одно и то же время обедаю — в час дня… Остальное время читаю, работаю, конечно. — Все ждут, когда вы напишете мемуары. — Мне это неинтересно. Ленин не писал, Сталин не писал… — Многие считают, что они вышли, — говорит Джугашвили. — Кто-то даже видел, говорят, «30 лет со Сталиным» — название даже знают. — Почтальон поздравлял меня с выходом книги, даже тираж называют, чушь какая! — хмурится Молотов. — Все видели, кроме меня… «30 лет со Сталиным», хотя я был с ним рядом сорок один год… Некоторые детали я уже забыл…..Спрашиваю: — Вы лучше помните свои молодые годы, революцию. — Это обыкновенно для стариков. — То, что вы кое-что подзабыли, я убедился, когда стал вам рассказывать один случай, — говорит Голованов. — Мы собирались лететь в Тегеран. Я приехал к Сталину на дачу и слышу из прихожей, как Сталин всякими словами ругает Берию. Я вошел. Берия сидит, уши красные, а Сталин говорит: «Посмотрите, товарищ Голованов, ведь у него глаза змеиные! Вон, Вячеслав Михайлович у нас слепой, а Берия пишет мелким бисером и носит пенсне с простыми стеклами!» А вы сидели на подоконнике… Я рассказал вам, а вы говорите: «Я не помню». Я думал, вы шутите. — Все не запомнишь… — Я вам воспроизведу заседание Комитета Обороны, хотите? Вот здесь Вячеслав Михайлович. Здесь сидел Сталин, очень редко сидел. Вы, помимо всего, еще и член Политбюро, отвечающий за определенную отрасль промышленности. На что я обратил внимание: вы никогда не вмешивались в вопросы — народу много. Но чувствовалось, что вы многое решаете со Сталиным вдвоем. Я помню, прислал Черчилль письмо Сталину, не первое, видимо. Вы подаете ему письмо, Сталин читает, встает и говорит: «Хм… Черчилль так думает: на коня взобраться, пощекотать, лаская, ему все сойдет? Прав я, Вячеслав?» А вы ему так спокойно отвечаете: «Думаю, нет». И Сталин сразу замолчал. Это меня так тогда ошарашило! И запомнилось. — Полемика — необходимая вещь. Все время поддакивать… Хоть Сталин меня незадолго до смерти и вышиб из Бюро Президиума ЦК, но я не огорчаюсь. Имею свои ноги, свое мнение и голову. Я при всех говорил ему свое мнение, может, не всегда нравилось, но прямо… Даже по «Экономическим проблемам социализма в СССР». Я слабо разбирался тогда, теперь я могу гораздо интересней по этому поводу судить, но я чувствовал, где не так, и сказал ему. Надо экономику взять за бока, а у него как раз не получалось. Как может экономика сама ставить задачу обеспечения? Это могут быть движущие силы, конечно, идеологические, психологические. И считать это объективным законом, а он указывает вначале, что объективный закон — это закон, действующий независимо от воли человека… Ну, а тогда какой же это экономический закон? Какой закон может поставить задачу направить по социалистическому пути, а не по капиталистическому? Таких законов не может быть. Вначале рассуждения у него были правильные, а после получилось противоречие. — Как вы Сталина называли? — спрашиваю[63]. — По партийным кличкам: Сталин или Коба. А он меня — Молотов или Вячеслав. Молотошвили — он часто говорил… — Есть такое предложение, Вячеслав Михайлович, — говорит Голованов, — если вы не возражаете, двадцать первого декабря давайте отметим день рождения Иосифа Виссарионовича. — Часто мы не должны собираться. Но иногда можно. Не знаю, как вы считаете, как у вас здоровье, а если я вас домой к себе приглашу? — Я не хочу вас поставить в трудное положение. Вы не думайте, кого-нибудь из нас, наверное, выселят из Москвы. — В словах Вячеслава Михайловича есть глубокий смысл, — говорит Голованов. — Маленкова в Москву не пускают. Он самый молодой из нас. У него мать жила в Удельной, на Рязанской дороге. У матери останавливался, потом переехал. Ше-пилов — я так и не могу понять — то ли исключен, то ли нет. По-видимому, исключен. Начитанный, хороший человек, редактор, оратор. Подготовленный, но партийного опыта у него, по-моему, немного. Кабинетный работник. — Я вам скажу следующее дело, если бы Хрущев видел дальше своего носа, он бы понял, что нужно опереться на авторитет Сталина, и ему бы все простили, — говорит Голованов. …Вышли на воздух фотографироваться. Я сделал много снимков перед дачей. Молотов в пальто, шляпе, пенсне, Голованов в одной шерстяной рубахе. Стоит улыбающийся, еще очень моложавый, чуть ежится от легкого морозца. Говорит: — Когда я думаю, сколько мне лет? Шестьдесят семь — не может быть! А почему? Я многие годы занимаюсь физической зарядкой и обязательно холодный душ. Я читал, что надо в холодильник ставить воду, а потом размораживать и пить. Оказывается, эта вода уничтожает микробы, содействует развитию гемоглобина. Есть гипотеза о продлении человеческой жизни на двадцать лет за счет охлаждения. Причем человек охлаждается не как морж, а быстро, и быстро прекращает это дело. — Если выживет, — подмигивает Молотов. …Мы уехали вчетвером на машине, на которой прибыл Евгений Джугашвили, в семнадцать тридцать. …Александр Евгеньевич Голованов, само олицетворение мужества, силы, энергии, проживет еще около четырех лет. Шота Иванович Кванталиани умрет ровно через шесть лет, ему не будет и пятидесяти. Молотову жить еще около пятнадцати лет. Слушаю голос с магнитной пленки — теперь это как будто голос с того света. А забудешься — словно только что приехал домой. Самое непримиримое — смерть… 02.12.1971 Рассказ В. П. Друзина о «ленинградском деле»— Критик Валерий Друзин рассказывал мне о «ленинградском деле», — говорю Молотову. — Я это дело мало знаю. Главное, конечно, знаю. Это интересно, — оживился Молотов. Внешне он вроде не проявляет интереса, но я-то знаю его не первый год. — Друзин говорит, что после статьи Жданова в 1946 году сняли главного редактора журнала «Звезда» Виссариона Саянова и назначили Еголйна, из аппарата ЦК, временно, он даже в Ленинград не приехал. А Друзина назначили замом, с тем чтобы он потом стал главным. Около года Еголин числился главным, а потом стал Друзин. В январе 1949 года в Ленинград приехал Маленков и привез с собой Андрианова. — Знаю, да, — кивает головой Молотов. — Друзин к тому времени был и депутатом горсовета, и членом горкома, и завсектором печати обкома партии. Присутствовал на всех заседаниях. Маленков поблагодарил бюро обкома партии за хорошую работу, персонально назвал Попкова, Лазутина, Капустина, Соловьева — все блокадники. «А теперь дадим им возможность поучиться», — сказал Георгий Максимилианович. И послали — кого в академию, кого парторгом ЦК — почетно, в разные места страны. Андрианова рекомендовали секретарем обкома. Он до этого был на Урале секретарем Свердловского обкома, четыре ордена Ленина получил за производство танков. Первым секретарем горкома приехал Ф. Р. Козлов. В МГБ сняли блокадников. Группа, которая смещена, — все арестованы. И началось: затеяли антисоветский заговор с целью превратить Ленинград в столицу и противопоставить свое руководство Сталину. Зачем издали так много книг о Ленинграде к юбилею в 1947 году? Зачем издали книги, где много врагов народа, таких, как Вознесенский, Кузнецов? Шкирятов прислал своего инструктора: пишите объяснение, чем руководствовались, выпуская в 1947 году вредную литературу? И наложил резолюцию: «Рассмотреть персональное дело В. П. Друзииа». Расстреляли шестнадцать человек во главе с Вознесенским. Секретари райкомов, директора заводов, библиотек, музеев, институтов… Выдвигались замы. Шло избиение ждановских кадров, которые якобы хотели отдельно организовать РСФСР. Андрианов предложил Политбюро снять Друзина со «Звезды» как пособника этой группы. Сталин ответил: «Не вижу основания снимать хорошего редактора хорошего журнала». И все же, несмотря на такую защиту, Друзину влепили «строгач» с предупреждением. И оставили на всех постах как бы в штрафниках. Андрианов возненавидел его. Друзин каждый год отчитывался. В 1952 году он обратился в обком: «Я уже два с половиной года ношу строгий выговор, можно снять?» «Не было команды», — отвечает Андрианов. А в день закрытия XIX съезда партии на совете старейшин Сталин сказал: «Предлагаю в Центральную ревизионную комиссию добавить четырех видных литераторов: Суркова, Твардовского, Симонова и Друзина», Андрианов промолчал. Друзина срочно вызвали в Москву: «Вас ждет председатель Центральной ревизионной комиссии Москатов». Друзин приехал, спросил: «Могу я снять выговор?» — «Теперь можно». В то же время Сталин похвалил В. Кочетова и В. Лациса, которого в Латвии ругал Пельше, секретарь по пропаганде. Лациса громили за роман «К новому берегу», а Сталин прочитал русский перевод, и Лацис получил Сталинскую премию первой степени. Через год после смерти Сталина в Ленинград приезжают Хрущев и генеральный прокурор Руденко и рассказывают, как было создано «ленинградское дело». Андрианов и Козлов стали каяться. Хрущев сообщил, что шестнадцать основных обвиняемых пытали, им сказали, что, если они признают обвинение, их помилуют. Все, кроме Вознесенского, согласились подписать. Их судили на глазах общественности, и нельзя было даже подумать, что они на себя наговаривают, выступая с признанием своей вины. Вознесенского на суде не было. Руденко сказал, что еще при жизни Сталина в 1952 году хотели пересмотреть это дело, Сталин в нем сомневался, но выяснилось, что было поздно: их расстреляли. Генерал-лейтенант Холостов, получив повестку, застрелился, генерала Федюнинского уволили из армии. — Как Друзин все это объясняет? — спрашивает Молотов. — Он считает, что Берия и Маленков решили расправиться с людьми, которых Сталин стал приближать к себе, то есть во имя карьеры избавиться от ждановских кадров. Вам приписывают такие слова о Берии: «Клоп налился кровью». — Ну, это кто-то придумывает, — заметил Молотов. — Решили не допускать к Сталину людей другого круга. Тем более Кузнецов появился… — Хороший был мужик, — говорит Молотов. — Они и под умершего Жданова подкапывались, — рассказывал Друзин. — Насчет Жданова у меня не было такой мысли, не было, — утверждает Молотов. — Во всяком случае, ждановские кадры снимали, несколько тысяч человек исключили из партии. — А он насчет создания рэсэфэсэровской группы не рассказывал? — спрашивает Молотов. — Говорит, что это больше придумано. — Генерал КГБ рассказывал, — вступает в разговор Шота Иванович, — что после войны в Ленинграде создали большие продовольственные запасы и никто не имел права ими распоряжаться. А когда затеяли эту российскую ярмарку, запасы пустили в ход и растранжирили. К этому добавилась идея сделать Ленинград столицей… — Это не было популярной идеей, — возражает Молотов. — Я не допускаю, чтобы Кузнецов пошел на создание отдельной Российской Федерации, сомневаюсь, — говорю я. — Тут не допускать нельзя, — возражает Молотов. — Все это может быть. Он был отличный, хороший человек, но в политике это, знаете, бывает более сложно. Было по ним крайнее решение принято — это да. А что-то было. Не так просто можно такие вопросы решить. Роль Маленкова представляется интересной. Хотя я считаю, он мягкотелый такой, в общем. Думаю, что тут Берия больше сыграл. Но едва ли по его инициативе. Что-то начинается со Сталина… — Возможно, представили ему материал. — Вот, вот. Друзин не все может знать и тем более не все может понять, — заключает разговор Молотов. 01.11.1997 «Скажите спасибо, что мало дали»Гуляем втроем — Вячеслав Михайлович, Шота и я — по аллее, параллельной железной дороге, вдоль забора. Навстречу нам идет Алексей Иванович Шахурин, нарком авиационной промышленности в годы войны. Старики любезно поздоровались и остановились поговорить. Сначала о здоровье, домашних делах и прочем. Молотов познакомил нас, и я, набравшись смелости, спросил. — За что вы сидели, Алексей Иванович? — Вот у него спросите, — ответил Шахурин, кивнув на Молотова, — он меня сажал. — Скажите спасибо, что мало дали, — ответил Молотов, постукивая палочкой по льду. Шахурин чуть задумался и посмотрел на меня: — А ведь он прав. По тем временам могло быть и хуже. Сейчас за это дают Героя Социалистического Труда, а тогда могли расстрелять… Заговорили об экономике. — После войны — налоги на все, даже на коров, — сказал Шахурин. — Ну и что? — спросил, постукивая палочкой, Молотов. — Кого-то надо было облагать. Вас, что ли, обложишь? — Но что это дало — обложить? — Вот это и дало нам копеечки, на которые мы и существовали. — Копейки! — Да, вот именно. — Когда я вернулся в Москву в 1953 году, — вспоминает Шахурин, — кругом в Подмосковье козы, мы раньше их не знали, а тут говорят: вот «сталинские коровы»… — Другого выхода у нас не было, дорогой товарищ. Это вам пора понять. Да, да, да. Пора понять, — говорит Молотов. Вячеслав Михайлович и Шота Иванович двинулись вперед, а я остался еще на несколько минут — поговорить с Шахуриным. Мне рассказывал о нем А. Е. Голованов, и я сказал, что помогаю Александру Евгеньевичу писать мемуары. — Читал. Мне очень понравилось, — заметил Шахурин, — но одно там плохо. Я просто не мог воспринять, как Голованов, такой умный человек, мог перехвалить Сталина — в том смысле, что тот чуткий, внимательный… Как можно признать чутким, когда вот он пригласит на обед, сидим, спросит обо всем: как желудок, какое вино вам полезно, домой вам всего пошлет, а через неделю арестуют. Голованов же видел все это! Он пишет, как Сталин выпустил Туполева. А кто мог арестовать, помимо Сталина? Туполев потащил за собой человек пятьдесят. Все КБ работало. Они ведь делали машины в заключении… Правда, Туполев говорил о Сталине: «Масштаб! Размах! Хозяин!» — И Петляков сидел, и Стечкин сидел, и Глушко… — Мясищев сидел… Можете прибавить: Шахурин сидел. Спросите у Молотова. Да нет, не надо. Я о себе у него не спрашивал. — Но вы-то сами знаете? — Никто не знает. Вызывает Абакумов: «Сознайся, с кем и когда о вредительстве…» Я говорю: «С ума сошли, какое вредительство, когда чисты, как стеклышко, работали, в ЦК нас ежедневно два отдела опекали, обкомовские секретари по авиации тоже, с заводами связаны…» Дело в том, что органам нужно было показать, что они работают. Мне думается, что в отношении меня, скорей всего, им нужно было ударить по Маленкову. — Потому что он курировал авиацию? Подрубить? — Подрубить, да. Потому что он слишком большую силу уже имел. Он и обкомы вел, и реэвакуацией руководил, демонтированием оборудования из Германии. — Мне рассказывал Голованов: «Меня назначили в комиссию, и я, как мог, защищал маршала Новикова и Шахурина. Думали, наоборот, я по ним ударю, а я стал защищать». — Я знаю его, — говорит Шахурин. — Он хороший человек. У нас отношения очень хорошие, я его очень люблю. Правда, он мне этого не говорил, но я допускаю, что это так. — Он говорит, все обрадовались, думали, вот сейчас отомстит Новикову — у них же трения были, а он стал защищать. — Вот видите, — говорит Шахурин, — Вячеслав Михайлович даже глаз прищурил, я его никогда таким не видел раньше. — Конечно, больной вопрос. — Вот Зверев пишет… Но все на Сталина нельзя валить! За что-то должен и министр отвечать, правда? — говорит Шахурин. — Вот я, допустим, что-то неправильно сделал в авиации, так я за это и какую-то ответственность обязательно несу. А то все на Сталина! Другое дело Голованов пишет: такой заботливый, такой внимательный… А организацию Ленинградскую, цвет нашей партии, уничтожить! Кузнецов только был выдвинут Секретарем ЦК. Секретарь Ленинградского обкома и горкома Попков, член ЦК. Как же так? Вообще ни одного партийного работника такого масштаба не могли без Сталина арестовать! Не могли. Как же это могло случиться? Я могу признать очень много положительных сторон Сталина, потому что я часто с ним встречался в течение шести лет, почти каждый день, и знаю очень много его редких, положительных сторон, это человек громаднейшего государственного ума и способностей уникальных, но в то же время я говорю, нельзя же ему простить вот такое избиение кадров — партийных, хозяйственных, военных. — А чем это можно объяснить? — Вот спросите у Молотова. — Он объясняет по-своему. Он говорит, иначе некуда было деваться. — Врет. Ну как это можно? Нет, не врет, конечно. Молотов — человек честный и очень принципиальный. Он твердо стоит на своем. Не оправдывается, нет, он убежден в своей правоте. Я ему тоже задаю этот же вопрос, он говорит: «Ну, конечно, может быть, не все были врагами, но потенциально…» — «Что потенциально?» — «Вот Хрущев, например». Тут он, конечно, прав. Насчет Хрущева я могу согласиться, потому что он за десять лет успел сделать такое, что враг не смог бы. Это хуже, чем враг. Так развалить то, что построено! Сейчас говорят, Сталин виноват в нашем отставании. Нет, извините, при Сталине мы так перли вперед, что дай бог! …Я догнал Шоту и Молотова. Спросил мнение Молотова. — Ну еще бы, конечно, он о себе не будет говорить. Он не может быть благодарен Сталину за то, что отсидел семь лет! И Молотов рассказал, в чем была причина ареста Шахурина в 1946 году. Вернее, подтвердил то, что я раньше слышал от Голованова. Суть сводится к следующему. После войны главком ВВС Главный маршал авиации А. А. Новиков и нарком авиационной промышленности А. И. Шахурин решили изъять у одного из самолетов лонжерон. Не от хорошей жизни решили, а для экономии металла и облегчения конструкции. Сделали они это вопреки решению Политбюро, без чьего ведома запрещалось вносить какие-либо конструктивные изменения в самолеты, находящиеся на вооружении в армии. Сталину доложили, что стали разбиваться летчики. Была создана комиссия, Новиков и Шахурин предстали перед судом и получили по восемь лет. — Он по натуре неглубокий человек, Шахурин, — говорит Молотов. — Нарком был неплохой. Особенно во время войны. Но все хотят быть добрыми. Вот если б большевики были добрыми, не было б большевиков никогда. А им пришлось очень тяжело, трудно. Вот летчики погибли, семьи остались… Не его вина? 04.12.1973 Книга ШахуринаСмотрим недавно вышедшую книгу мемуаров А. И. Шахурина. — Он не похож тут, — говорит Молотов, глядя на фотографию бывшего наркома авиационной промышленности. — Он молодой тут. — Он и молодой был не такой, — утверждает Молотов. — Помните, как мы его с вами встретили, Вячеслав Михайлович? — Да. — Он Сталина ругал. А здесь он о нем пишет положительно, с другой стороны — резок Сталин. — Он все-таки его прижал крепко. — Приводит такой эпизод. Сняли с производства самолеты Ту-2. Шахурин просил этого не делать, но Сталин возразил, что нужны истребители, а не бомбардировщики Ту-2. Дней через двадцать выяснилось, что это хороший самолет. Сталин понял, что ошибся, что надо восстановить производство Ту-2, и говорит Шахурину: «Почему на меня не пожаловались в ЦК?» И Шахурин пишет: «На Сталина в ЦК никто не жаловался». Слишком самовластный… — Самовластный? — говорит Молотов. — У Сталина, конечно, были перегибы. Но у него было чутье к технике, к новому… 01.08.1984 «Туполевы…»— Почему сидели Туполев, Стечкин, Королев? — Они все сидели. Много болтали лишнего. И круг их знакомств, как и следовало ожидать… Они ведь не поддерживали нас… В значительной части наша русская интеллигенция была тесно связана с зажиточным крестьянством, у которого прокулацкие настроения, страна-то крестьянская. Тот же Туполев мог бы стать и опасным врагом. У него большие связи с враждебной нам интеллигенцией. И если он помогает врагу и еще благодаря своему авторитету втягивает других, которые не хотят разбираться, хотя и думает, что это полезно русскому народу… А люди попадают в фальшивое положение. Туполевы — они были в свое время очень серьезным вопросом для нас. Некоторое время они были противниками, и нужно было еще время, чтобы их приблизить к Советской власти. Иван Петрович Павлов говорил студентам: «Вот из-за кого нам плохо живется!» — и указывал на портреты Ленина и Сталина. Этого открытого противника легко понять. С такими, как Туполев, сложнее было. Туполев из той категории интеллигенции, которая очень нужна Советскому государству, но в душе они — против, и по линии личных Связей они опасную и разлагающую работу вели, а даже если и не вели, то дышали этим. Да они и не могли иначе! Что Туполев? Из ближайших друзей Ленина ни одного в конце концов не осталось, достаточно преданного Ленину и партии, кроме Сталина. И Сталина Ленин критиковал. Теперь, когда Туполев в славе, — это одно, а тогда ведь интеллигенция отрицательно относилась к Советской власти! Вот тут надо найти способ, как этим делом овладеть. Туполевых посадили за решетку, чекистам приказали: обеспечивайте их самыми лучшими условиями, кормите пирожными, всем, чем только можно, но не выпускайте! Пускай работают, конструируют нужные стране военные вещи. Это нужнейшие люди. Не пропагандой, а своим личным влиянием они опасны. И не считаться с тем, что в трудный момент они могут стать особенно опасны, тоже нельзя. Без этого в политике не обойдешься. Своими руками они коммунизм не смогут построить. (12 апреля 1988 года я беседовал с Героем Советского Союза Г. Ф. Байдуковым. Он рассказал, что после неудачной попытки перелета через Северный полюс в США экипажа С. А. Леваневского в 1935 году состоялось совещание у И. В. Сталина. Выступил Сигизмунд Леваневский: «Товарищ Сталин, я хочу сделать официальное заявление. — И посмотрел на Молотова, который что-то писал в тетрадке. Наверно, Леваневский решил, что Вячеслав Михайлович протоколирует заседание, что вряд ли, конечно, было, но он стал говорить в его сторону. — Я хочу официально заявить и прошу записать мое заявление. Я считаю Туполева вредителем. Убежден, что он сознательно делает самолеты, которые отказывают в самый ответственный момент». Туполев был здесь же, за столом. Побелел. В то время люди мыслили по-иному. Сделал неудачную вещь — враг. Леваневский был, конечно, выдающийся летчик, но ему не везло. Впоследствии мы с Чкаловым и Беляковым, а также экипаж М. М. Громова доказали высокие качества туполевской машины АНТ-25 — Ф. Ч.) 02.11.1971 …Я говорю Молотову о том, что мне предлагают написать книгу в серии ЖЗЛ либо о Туполеве, либо об, Ильюшине — на выбор. — Я бы советовал об Ильюшине, — говорит Молотов. — О беспартийном ты уже написал (имеет в виду Стечкина. — Ф. Ч.). — Вы обоих знали хорошо? — Ну, Туполев, он, так сказать, в стороне, но я его знал неплохо. А вот второго, Ильюшина, знал довольно хорошо. Моя дочка была за его сыном замужем. Светлана, да. Потом, он коммунист, а Туполев другой марки. Другой. Он, конечно, бывал и в антисоветских делах. Бывал, тут нам пришлось много подумать и поработать, чтобы наладить это дело. Ильюшин, по-моему, хороший человек. Хороший. Хороший коммунист, кроме того. Ну и специалист. В другие дела он, по-моему, не лез, но авиацию понимал. И сделал много хорошего. Он бывал не часто, но беседовали по всем вопросам довольно хорошо. Да, они разные. Один коммунист, другой — буржуазного типа. Да. Но Туполев, конечно, во многом советизировался. Туполев, он, конечно, крупнее. Разница небольшая, но все-таки… Опыт у Туполева. И он прошел через большие трудности. А Ильюшин попал на подготовленную почву и сделал многое. По глубине подготовки, в данном случае технической, мне кажется, Туполев выше Ильюшина. Культура Туполева выше, я думаю. Между ними было соревнование. Ильюшин хотел, чтобы самолеты под руководством коммуниста были не хуже, а может, и лучше, чем у беспартийного Туполева. И мы это хотели показать… Была страсть к этому. И в общем, он выполнял эту задачу неплохо. Ильюшин, по-моему, легче понятен. Но писать о нем будет трудно. Он не шумливый, и докопаться до него непросто. Туполева надо понять. Потому что обрисовать его как советского человека — недостаточно. Он более сложная фигура. А были и такие случаи, как с Капицей. Мне пришлось его задержать в Советском Союзе. Он хотел ехать в Англию, обратно, на один из международных конгрессов, а мы ему предложили остаться в Советском Союзе. Он без особого энтузиазма принял это. Но никогда по этому поводу не выражал публично, по крайней мере, неудовольствия какого-нибудь. — Мне рассказывали, что Иван Петрович Павлов тоже высказался против того, чтобы Капица ехал за границу. — Я думаю. — Павлов ему напомнил, против кого он будет работать в Англии — против России! Хотя Павлов не любил коммунистов… — Не любил, — согласился Молотов. — А был патриотом России. — Конечно. Не только. Я видел переписку Павлова насчет этих дел — не пускают некоторых людей за границу и тому подобное. Потом встретились на конгрессе физиологов в Москве. Он был председателем этого конгресса, ну а я как Председатель Совнаркома приветствовал этот конгресс, а потом оказались вместе. Он мне говорит, когда мы сидели с ним: «Я хорошо знаю деревню и слежу, что выйдет из вашего эксперимента, — он экспериментом назвал коллективизацию. — Я знаю хорошо крестьянина, знаю, что он может стонать и молчать, а вот вдруг он к старому захочет вернуться от ваших колхозов, что вы будете делать?» Я говорю, что вы не совсем правильно понимаете тех крестьян, которые существуют на деле, и говорите, что они единоличные хозяйства хотят, у них свой подход к этому делу. Надо различать бедняка, середняка и кулака. Вот вы говорите: а вдруг они захотят в своей массе вернуться к единоличному хозяйству? Этого нельзя говорить в целом о крестьянстве. Одно дело — кулаки. Им есть о чем жалеть. А о чем жалеть будут бедняки, которых большинство? Даже середняки. У них очень трудная жизнь, а доходов мало. Им приходится переносить много всяких трудностей. Павлов немного задумался. Я почувствовал, что он не отмахивается от этого вопроса, но сам к этому не подходил, потому что у него обобщенное такое эсеровское мнение о крестьянстве, — ну, есть какие-то отдельные кулаки — это одно, а все крестьяне — единоличники, собственники — и это для них решающий вопрос. А на деле, конечно, не так. Мне показалось, что он над этим аргументом задумался. Это было в самом конце его жизни. Конгресс был в 1934-м или в начале 1935-го… — Вернемся к Ильюшину… — И коммунист хороший, и человек хороший, — говорит Молотов. — И очень, как бы сказать, настроен хорошо. Вологодский. Он не просто специалист, убежденный на деле, но гражданин Советского Союза сознательный. И преданный. Пробил себе дорогу самостоятельно, своей мыслью и работой. А насчет Туполева были сведения, что он был тесно связан с парижским комитетом антисоветским, который создали эмигранты, богачи в Париже и в других городах Франции и Германии. Но потом он все-таки сблизился с советскими людьми и вел себя очень неплохо. Конечно, белогвардейцы не хотели выпускать его из своего поля. Видят, что он у большого дела стоит. Он якшался с ними довольно долго. Но потом, по-моему, честно работал. В конце концов, в зрелом возрасте и при первоначальном отрицательном отношении пришел к Советской власти. Повернулся неплохо, неплохо. Всех лучших конструкторов авиации знаю — разного характера люди, есть вполне сложившиеся, дружественные, хорошие, а есть скептически настроенные. — А с Поликарповым вам приходилось сталкиваться? — На заседаниях. В деловой обстановке, на заседаниях. — Его считали «королем истребителей». — Да, он начал, конечно, это дело. На первой стадии занял хорошую позицию в технике самолетов. Но, по-моему, он был человек религиозный, старого такого закала… Туполев — такого предпринимательского характера. Ильюшин был более, конечно, чистый человек. — Сталину приходилось с ним встречаться? — Много раз. И по деловым вопросам, по авиации. Сталин к технике имел чутье большое. «Летающий танк» у Ильюшина замечательно получился. А Ил-1 Cталин поручил ему сделать. — Авиации Сталин много внимания уделял? — Много, много. Одно из главных его довоенных дел, — говорит Молотов. — Заседаний было много, не специальных, по разным вопросам, и обязательно Ильюшин участвовал. 29.04.1983, 14.10.1983, 01.08.1984, 30.04.1986 «Почему я был отстранен?»…Разговор о репрессированных делегатах XVII съезда партии. — Допустим, в состав ЦК входят восемьдесят человек, из них тридцать стоят на правильных позициях, а пятьдесят не только на неправильных, ж> являются активными врагами политики партии. Почему большинство должно подчиняться меньшинству? — Вопрос неправильно задан, — отвечает Молотов. — Но дело в том, что в таком виде его задают многие. — Все сделано Хрущевым, чтобы в таком виде ставился этот вопрос. Все сделано для этого. Все сделано. Во-первых, насчет демократического централизма. Диалектика материалистическая распространяется на демократический централизм? Так слушайте, не было такого положения, чтобы меньшинство исключило большинство. Это постепенно происходило. Семьдесят исключили десять — пятнадцать человек, потом шестьдесят исключили еще пятнадцать. Вот в порядке большинство и меньшинство. — Это свидетельство блистательной тактики, но еще не свидетельство правоты. — Позвольте, но это соответствует фактическому развитию событий, а не просто тактике. Постепенно вскрывалось в острой борьбе на разных участках. Кое-где можно было потерпеть: держали, хоть и не доверяли. Кое-где нельзя было терпеть. И постепенно — все это было в порядке демократического централизма, без нарушения формального. По существу, это привело к тому, что в составе ЦК осталось меньшинство из этого большинства, но без формальных нарушений. Так что это не нарушает формально демократического централизма, такой постепенный, хотя и довольно быстрый процесс очищения путей. — В течение двух-трех лет. — Но это же имеет громадное значение! Одно дело — Февральская революция, одни условия борьбы. Октябрьская — уже социалистическая революция, восемь месяцев, а какой колоссальный сдвиг, и другие уже люди… Складывается иное положение. А два-три года могли показать, кто где, гниль еще держалась незаметно, человек уже прогнил и не заслуживает доверия как руководитель, поэтому тут историческую сторону надо учитывать, материалистическая диалектика, она имеет громадное значение, и если разобраться конкретно в этих событиях, то это никакой не переворот меньшинства против большинства, а это историческое нарастание событий и расчистка путей. Это очень существенно. Более конкретно надо судить по историческому периоду и по группировкам, которые тогда складывались. А также и по тому прошлому, которое оставило этих людей. Борьба с троцкизмом — она не все троцкистское выключила из состава не только партии, но и центральных органов. В этот период уже главной была борьба с правыми, они наиболее гибко примыкают к партии, тогда партия считала это главной опасностью. После разгрома кулачества, после полной коллективизации правых оказалось, то есть обнаружилось, гораздо больше, чем допускали. Это было главной опасностью. — Семнадцатый съезд вошел в историю нашей партии под названием. «Съезд победителей». — Вот эти названия — как будто они что-нибудь определяют! Это агитационное название. — На XVII съезде никаких оппозиционных вопросов не выдвигалось? — То, что было открыто, Политбюро знало. Но все невозможно знать, просто невозможно, пока какой-нибудь повод не будет для этого. Я вам скажу, чтобы некоторый свет бросить на это дело, вы как считаете Хрущева — правым, левым, ленинцем — что? Хрущев, он сидел в Политбюро при Сталине все сороковые годы и начало пятидесятых. И Микоян. Чистили, чистили, а оказывается, правые-то в Политбюро сидели! Вот ведь как это сложно! Так вот, по таким, я бы сказал, цифрам и по таким формальным признакам нельзя понять это. Нельзя понять. Такие были глубокие изменения в стране, в партии тоже, что вот даже при всей бдительности Сталина освободиться от троцкистов и правых… В Политбюро и при нем все время сидели, особенно правые, которые наиболее приспособленчески умеют вести себя. Настолько гибкие, настолько связаны с нашей крестьянской родиной, настолько крепко связаны, и так этот мужик умеет приспособиться через своих идеологов со всем переливом и изгибом, что разобраться, где тут начинается троцкизм и особенно где начинаются правые, — это сложнейшая тема, сложнейшая. Они во многих случаях ведут себя не хуже, чем настоящие ленинцы, но до определенных моментов. Как Хрущев. Когда был еще Сталин, он на XIX съезде был докладчиком по организационному вопросу. Я открывал съезд XIX… Но мне посоветовали — у меня и теперь еще лежит речь страниц на двадцать на XIX съезде партии, — все Политбюро говорит: «Не выступай! Сталин будет недоволен, не надо, не выступай». Ничего особенного у меня не было, конечно, все было в пользу Сталина в конце-то концов, никто не знал текста моей речи, а вот — не вылезай, не надо тебе выступать! — Почему? — А почему я был удален из Политбюро после — XIX съезда в первый же день? Фактически. Нет, и формально. Да, да, вы этого не знаете. — Но во всех газетах… Вы были в Президиуме ЦК… — Президиум — двадцать пять человек. Это было в уставе предусмотрено. А собрался Пленум, надо было выбрать Бюро, выбрали Бюро без Молотова и Микояна. В состав Президиума я входил, в состав двадцати пяти, но он не собирался почти. А бюро — десять человек, но это не было опубликовано. Берия и Хрущев вошли. В 1953 году Сталин меня к себе уже не приглашал не только на узкие заседания, но и в товарищескую среду — где-нибудь так вечер провести, в кино пойти — меня перестали приглашать. Имейте в виду, что в последние годы Сталин ко мне отрицательно относился. Я считаю, что это было неправильно. Пускай разберутся в этом деле хорошенько. Я-то своего мнения о Сталине не менял, но тут какие-то влияния на него, видимо, были. — Наверно, группа трех друзей поработала — Берия, Хрущев и Маленков? — Да, видимо. Скорей всего, да. Но все-таки, конечно, главное не в этом. А недоверие было к моей жене. Тут сказалось его недоверие к сионистским кругам. Но не вполне, так сказать, обоснованное. 09.10.1975 — В энциклопедии: «В ноябре 1946 г. общее собрание Академии наук СССР избрало В. М. Молотова почетным академиком». — В сорок шестом. Я был за границей. Я был в Нью-Йорке и получил телеграмму от Сталина. «Были у меня академики, — он пишет, — они хотят избрать тебя почетным академиком. Прошу согласиться». Я ответил, что согласен, и допустил глупость. Какую-то лишнюю фразу написал, вроде того что: «Ваш Молотов», — подписал. Потом Сталин мне сказал: «Я удивляюсь, как ты так подписал?» Да, я говорю, действительно глупость. Ну, чересчур, ну, Академия, там, черт его знает, объединился пестрый состав, при чем здесь «Ваш»? Попроще хотел. Поскольку выдвинули меня в академики, нельзя не согласиться. Это глупость, конечно. — Дальше: «В марте 1949 г. В. М. Молотов был освобожден от обязанностей министра иностранных дел и сосредоточил свою деятельность в Совете Министров СССР в качестве заместителя Председателя Совета Министров СССР». Никак не комментируется. Это, видимо, уже Сталин начал давить на вас. — Не комментируется? Нет, раньше все это началось. 19.04.1977 В январе пятьдесят третьего года приехала какая-то польская артистка… Домбровская-Турская. Ну вот, на другой день было опубликовано: на концерте присутствовали — первый Сталин, второй Молотов и т. д. Вот так. Я попал, как и раньше, на второе место, следили, кто за кем. Я формально числился еще вторым, это было опубликовано, я сам читал газету, но меня уже никуда не приглашали. Он же открыто выступил, что я правый. — А не из-за Полины Семеновны? — Она из-за меня пострадала. — А не наоборот? — Ко мне искали подход, и ее допытывали, что вот, дескать, она тоже какая-то участница заговора, ее принизить нужно было, чтобы меня, так сказать, подмочить. Ее вызывали и вызывали, допытывались, что я, дескать, не настоящий сторонник общепартийной линии. Вот такое было положение. — Вячеслав Михайлович Молотов, человек, который был вместе с Иосифом Виссарионовичем значительно раньше, чем вы стали руководящими деятелями государства. — С 1912 года, — уточняет Молотов. — С 1912 года! Вы вместе были в ЦК в самые острейшие и сложнейшие моменты нашей борьбы, вы прошли такое величайшее испытание, как Великая Отечественная война, вопрос стоял: быть или не быть… — Я ничего особенного не сделал, — говорит Молотов. — У меня заслуг тут меньше, так сказать… — Вы в Лондон летали? — Летал, да. — Во время войны, вероятно, ни один из политических деятелей не совершал тех ходов, какие совершили вы. — Ну, пришлось, — соглашается Молотов. — Вячеслав Михайлович Молотов, действительно, второе лицо в государстве на протяжении стольких лет, чем вы это объясните? Сталин что, вообще никому не доверял? Или его сознание пострадало? Как это может быть? — Мнительность была. Сталин пережил такие трудные годы и столько взял на свои плечи, что в последние годы все-таки стал страдать однобокостью. Однобокость в том, что та или иная ошибка могла показаться поводом к серьезному делу. — Но ведь в начале пятидесятых годов у нас уже не было и не могло быть людей, которые бы пытались проводить в партии антисталинскую линию. — Погодите. В марте Сталин умер, а уже в июне — июле Хрущев возглавлял гот же самый ЦК. Как же это получилось так? Хрущев, Микоян, люди правых настроений, они сидели и изображали из себя величайших сторонников Сталина. Микоян ведь сказал к его 70-летию: «Сталин — это Ленин сегодня». Вы не повторите, я не повторю, а он в своей статье к его 70-летию гак изобразил, что вот вам был Ленин, а теперь такой же Сталин. А через несколько месяцев после смерти Сталина он от этого открутился. А Хрущев? Он ведь группу сколотил! Вот вам и крепость, вот вам и все очистили! Вот вам уже и все пройдено! Ничего еще не пройдено! Я написал статью к 90-столетию Ленина в 1960 году, я тогда в Монголии был послом, направил ее в «Коммунист», она не была напечатана. Константинов, тогдашний главный редактор, один из немногих редакторов, который на мою статью хоть ответил, почему не напечатана: она не может быть напечатана, ваша статья, во-первых, потому, что вы не говорите о своих ошибках, раз, во-вторых, вы рассуждаете о Февральской революции и говорите, что она была ударом по империализму, будто бы не Октябрьская, а в-третьих, вы говорите, будто бы Ленин в беседе с вами говорил такие вещи — это как критика коммунистов, что наша страна такая слабая, — мы не можем напечатать. А что мне Ленин говорил в 1921 году? Беседа была такая острополитическая, очень для меня, так сказать, важная. Ленин сказал: «Я хочу с вами поговорить насчет наших экономических дел». Преображенский тогда был замнаркома по финансам, оппозиционер, но он тогда еще не полностью себя показал, но все-таки на партийных позициях уже не стоял полностью. И Ленин говорит: «Преображенский предлагает финансовую реформу, изменить, так сказать, паритет рубля, провести деноминацию, вместо тысячи назначить один рубль, в таком духе реформа. Нужно ли это? Ведь какое у нас положение государства — достаточно тронуть пальчиком одним, и все рухнет!» Я это написал. Мне отвечают: а ведь такие вещи писать, это как поймут за границей — будут бояться революции. Спустя почти сорок лет после того, как он мне это говорил, нельзя об этом сказать — это же абсурд! А вот видите, какое было положение. Так вот, в этих условиях только благодаря авторитету Ленина и держалось государство. Только благодаря этому! А потом — благодаря Сталину. Многое сделано, и выходило лучше, чем мы были достойны — ведь многие из нас были недостаточно подготовлены. А Сталин, его авторитет был настолько высок, что где тут собирать по каждым сложным вопросам пленумы и прочее. Приходилось иногда кое-что не очень демократически решать, а потом партия одобряла, как правило. И если бы мы собирали по каждому вопросу демократические решения, это бы нанесло ущерб государству и партии, потому что затягивалось решение вопроса, в некоторых случаях, может, к улучшению повело бы принятие более обсужденных решений, а в некоторых случаях сама затяжка решений принесла бы огромный вред. Вот в этих сложных условиях не всегда формальный демократизм решает дело. Ну а вместе с тем Сталин, взяв на себя такую ношу, конечно, иногда и гнулся, иногда и поддавался каким-нибудь неправильным советам, подсунутой информации неправильной. Вот он меня знал очень уж хорошо. Вся моя биография ему известна, и знал меня с 1912 года лично, потом мы с ним десятки лет вместе работали и проводили самые острые решения. В основном я во всем был активным, никогда не был пассивным, а у него появилось сомнение — а черт его знает почему! У него были всякие основания. Я, может быть, колебнулся в одном вопросе в 1940 году. Я не побоялся, что правые тоже в таком духе говорят, а поставил перед ним лично вопрос: «Поднять заготовительные цены на зерно. Очень в сложных условиях живут крестьяне в центральной части». Он говорит: «Как так? Как это можно предлагать? А если война?» — «А если война, прямо скажем народу: поскольку война, возвращаемся к старым ценам». — «Ну, знаешь, чем это пахнет?» «Если война, вернемся к старому. Крестьяне поймут, что не можем больше платить». Я считаю, что я допустил ошибку. Надо было еще потерпеть. И я не стал спорить. Я предложил. Это было с глазу на глаз, только вдвоем, на квартире. Я сказал и больше не поднимал вопроса. В 1952 году он мне это напомнил. Он выступил: «Вот что Молотов предлагал — повышение цен на зерно и требовал созыва Пленума ЦК!» Я не мог требовать, какой там Пленум ЦК, я лично ему сказал. А ему это, видно, запомнилось, как мое колебание вправо. Он не обвинил прямо в правом уклоне, но говорит: «Вы рыковцы!» Микояну тоже. Но тот действительно рыковец. Правый. Хрущевец. Большой разницы я не вижу между Хрущевым и Рыковым. Но я-то никогда этого не поддерживал. Первым выступил Микоян — я, мол, ничего общего не имею… Эти документы, конечно, не были опубликованы. Я ничего вообще не знал, я тоже выступал, говорил: «Да, я признаю свою ошибку. Но дело в том, что это был мой разговор с глазу на глаз с товарищем Сталиным, больше никого не было». А Сталин, почему он напутал? Нельзя даже свои сомнения неправильные сказать ему? Но, по-моему, эта вещь очень важна, потому что в Центральной России напряжение очень большое. На Пленуме, в основном Хрущева он пододвигал вперед. Ну, меня, как правого, и в Бюро не выбрали. Конечно, вопрос немаленький, это не просто повод, это значит, некоторые колебания у меня в этом вопросе были. — Я не уверен, что Сталин был прав в этом вопросе. — Я думаю, что он был прав, — твердо отвечает Молотов. — Так все можно оправдать. — Ну, вот видите, так тоже извращать не надо. Мы богаче, мы такие теперь вещи проделываем, конечно, это в ущерб основному делу, — невозможно вздули заготовительные цены, не было в этом необходимости, это вредно для крестьянства, не говоря уже в целом для страны, это вредно, нам надо было те деньги, которые мы в больших очень количествах, в излишестве, дали на заготовительные цены, направить на увеличение тракторов, комбайнов, других машин, и все это дать крестьянину, быстрей поднять сельское хозяйство… Не все у него с памятью было хорошо, кто-то ему вовремя какие-то бумаги дал, он вцепился, надо выступать на Пленуме, и вот, значит, Микояна, как правого, и меня… Может, что-то еще, я не запомнил. Я вышел, покаялся, что это была моя ошибка, я признаю. Это после XIX съезда, в 1952 году, в октябре или в ноябре. Но я думаю, я ошибался. Я на этой ошибке не настаиваю… По таким спорным вопросам, и с тех пор прошло уже двенадцать лет… Полина Семеновна в это время уже была выслана. 03.02.1972, 04.10.1972, 12.05.1976 — Я выступал, конечно, в узкой своей среде — не согласен был с ним по ряду вопросов. Обсуждали новую пятилетку — я всегда был сдерживающим насчет капитального строительства. Все натягивается, натягивается и не выполняется полностью. Но когда мы даем план больше, чем выполняем, в одном месте рвется, начинаем затыкать, прибавляем к другому месту. План, значит, заново надо. «Кто виноват?» — он говорит. У него на даче. Человек шесть-семь. Он был Председателем Совмина, я — первым заместителем, это было, видимо, в 1950 году. Он говорит: «Нельзя у нас добавлять, добавлять, а потом тут возьмем, там… Кто виноват?» «Ты виноват!» — я ему. Он разозлился. «Ты же все время добавляешь! — Я ему так сгоряча, при всех, ну, своя компания. — Все время, придут к тебе, ты еще добавишь, еще!» Я дрался со многими. Я считаю, Берия тут меньше других мне вредил. Я думаю, меньше. Едва ли и Маленков. Я думаю, кой-кто из аппарата ЦК, более мелкие, а потом уже он давал расследовать… До сих пор не могу понять, почему я был отстранен? Берия? Нет. Я думаю, что он меня даже защищал в этом деле. А потом, когда увидел, что даже Молотова отстранили, теперь берегись, Берия! Если уж Сталин Молотову не доверяет, то нас расшибет в минуту! Хрущев? Едва ли. Некоторые знали слабые стороны Сталина. Во всяком случае, я ему никаких поводов не мог дать. Я ему не всегда поддакивал, это верно. Он меня за это ценил: скажешь» свое — правильно, неправильно, можно не учесть и эту сторону дела. А тут вдруг… У нас была привычка, в течение войны, перед войной началось, вечером засидимся в ЦК долго или у Сталина на квартире, ужинаем, потом — давай пойдем в кино! Часов в одиннадцать-двенадцать идем в кино, в кремлевский зал. Была такая небольшая сцена, иностранцев туда приглашали, Черчилль там бывал. Небольшой кинозал, но удобно, что посторонних нет. Кто-нибудь из киношников бывал. Во-первых, Большаков как председатель комитета, иногда кто-нибудь из авторов сценариев и так далее. И вот тогда разговоры некоторые бывали, конечно. Я до сих пор не могу понять — к Хрущеву Сталин относился тоже очень критически. Он его как практика ценил — что он нюхает везде, старается кое-что узнать, — Сталину такой человек нужен, чтоб он мог на него положиться более-менее. В последние годы был один научный работник в «Проблемах мира и социализма», Ярошенко, который был раскритикован Сталиным в его последней работе. Когда Хрущева не было, Сталин говорил: «Дело Хрущева!» Сталин его крепко разгромил, и, по-моему, правильно. Сомнения были, разобрался ли я в этом деле, потому что там были довольно сложные политэкономические вопросы. Сталин говорил, что это подстроено, потому что Ярошенко был в Московской организации. Я думаю, это неправильно, вряд ли Хрущев мог додуматься, он не разбирался в таких теоретических вопросах. Могли подсказать. Ловкачи всегда есть. Вовремя сообщить, какой-то документ дать, и, конечно, тогда человека заинтересовывает, он начинает все ближе влезать в дела. Но Сталин никому полностью не доверял — особенно в последние годы. 04.10.1972, 09.01.1981 «Полина жива!»В жаркий августовский день приехали на Новодевичье кладбище — на сегодня назначено открытие надгробного памятника П. С. Жемчужиной. К шестнадцати часам в старой части кладбища, в углу стал собираться народ — земля слухом полнится. А слух такой, что приедет Молотов — тот самый, исчезнувший с портретов в 1957 году. — Я недавно с ним ехал в одном троллейбусе, — слышу голос в толпе. — Ну да, будет он в троллейбусе ездить — у него небось персональная «Чайка»! Надо сказать, Хрущев лишил его, как и других членов «антипартийной группы», всех прежних привилегий. Молотов жил у родственников на Чкаловской и получал пенсию сто двадцать рублей. Накоплений и богатства не было — не та закалка, да и жил на всем государственном. Вспоминаю разговор с маршалом Г. К. Жуковым; «Когда меня сняли при Хрущеве, мы с Галиной Александровной думали, что у нас много денег. Оказалось — ничего. Пришлось баян продать. Солдат отнес в комиссионку, принес пятьдесят рублей. Я, конечно, мог бы ездить на трамвае, но ведь меня будут снимать для иностранных журналов, я же одиозная фигура». Я уже ничему не удивлялся, ибо знал, как живут опальные бывшие. …Молотов идет по аллее в строгом темно-синем костюме, при галстуке, в пенсне. Рядом — дочь Светлана и зять Алексей Дмитриевич Никонов, доктор наук, профессор. Памятник делал Вучетич. Денег не взял. Долго делал, тянул, объяснял, что это «должно быть достойно Вучетича». На черной вертикальной плите — белый барельеф. Все. Строго, ничего лишнего. На кладбище мы пробыли с полчаса и поехали в дом на улице Грановского, квартира 61, где помянули Полину Семеновну. — Мне выпало большое счастье, — сказал Молотов за столом перед гостями, — что она была моей женой. И красивая, и умная, а главное — настоящий большевик, настоящий советский человек. Для нее жизнь сложилась нескладно из-за того, что она была моей женой. Она пострадала в трудные времена, но все понимала и не только не ругала Сталина, а слушать не хотела, когда его ругают, ибо тот, кто очерняет Сталина, будет со временем отброшен как чуждый нашей партии и нашему народу элемент. — Все-таки мне кажется, — позже сказал я ему, да и не раз у нас возникал разговор на эту тему, — что не она из-за вас пострадала, а вы из-за нее, когда Сталин выступил против вас на Пленуме после XIX съезда и не ввел в Бюро Президиума ЦК. — Чего он на меня взъелся? Может, и это имело значение. Когда на заседании Политбюро он прочитал материал, который ему чекисты принесли на Полину Семеновну, у меня коленки задрожали. Но дело было сделано на нее — не подкопаешься. Чекисты постарались. В чем ее обвиняли? В связях с сионистской организацией, с послом Израиля Голдой Меир. Хотели сделать Крым Еврейской автономной областью… Были у нее хорошие отношения с Михоэлсом… Находили, что он чуждый. Конечно, ей надо было быть более разборчивой в знакомствах. Ее сняли с работы, какое-то время не арестовывали. Арестовали, вызвав в ЦК. Между мной и Сталиным, как говорится, пробежала черная кошка. Она сидела больше года в тюрьме и была больше трех лет в ссылке. Берия на заседаниях Политбюро, проходя мимо меня, говорил, вернее, шептал мне на ухо: «Полина жива!» Она сидела в тюрьме на Лубянке, а я не знал. — А вы продолжали оставаться вторым человеком в государстве? — Формально — да. Но только для прессы, для общественного мнения. На свободу она вышла на второй день после похорон Сталина. Она даже не знала, что Сталин умер, и первым ее вопросом было: «Как Сталин?» — дошли слухи о его болезни. Я встретился с ней в кабинете Берии, куда он пригласил меня. Не успел подойти к ней, как Берия, опередив меня, бросился к ней:, «Героиня!» Перенесла она много, но, повторяю, отношения своего к Сталину не изменила, всегда ценила его очень высоко. Шота Иванович добавил: — Однажды один из ее родственников за столом стал осуждать Сталина, она его быстро поставила на свое место: «Молодой человек, вы ничего не понимаете ни в Сталине, ни в его времени. Если б вы знали, как ему было трудно сидеть в его кресле!» 18.08.1973 — В последний период у него была мания преследования. Настолько он издергался, настолько его подтачивали, раздражали, настраивали против того или иного — это факт. Никакой человек бы не выдержал. И он, по-моему, не выдержал. И принимал меры, и очень крайние. К сожалению, это было. Тут он перегнул. Погибли такие, как Вознесенский, Кузнецов… Все-таки у него была в конце жизни мания преследования. Да и не могла не быть. Это удел всех тех, кто там сидит подолгу. 21.10.1982 — Не знаю, на кого он понадеялся! Хрущева выдвинул, а меня смешал вместе с Микояном. Ну никаких же оснований не было. Тут не только из-за Полины Семеновны. Я знаю, что это влияло, это я допускаю. — В народе говорят, он потребовал, чтоб вы развелись, а вы отказались. Потребовал, чтоб отмежевались от нее. — Во-первых, отмежевали меня от нее. А вот то, что я воздержался при голосовании, когда ее исключали из ЦК еще в 1940 году — это да. Да, он тогда и сказал: «Вот все говорят — как же так, голосовал против». Она была кандидатом в члены ЦК, ее исключили. Обвинили… Чего только не придумали… Очень путано все это было. Кажется, Жданов выступал с разъяснениями по этому вопросу. В ТЭЖЭ, где она работала, вредители появились. В Узбекистане началось. Она тогда занималась парфюмерией и привлекла к этим косметическим делам сомнительных людей. А других, конечно, не было. Немецкие шпионы там оказались. Жены крупных руководителей стали ходить к ней, заниматься косметикой. А когда в 1949-м ее арестовали, предъявили, что она готовит покушение на Сталина. Вышинский потом говорил. Перед тем как меня сняли из Министерства иностранных дел, Сталин подошел ко мне в ЦК: «Тебе надо разойтись с женой!» А она мне сказала: «Если это нужно для партии, значит, мы разойдемся». В конце 1948-го мы разошлись. А в 1949-м, в феврале, ее арестовали. А мне никакого обвинения. Мне толком ничего не говорили. Но я из сопоставления некоторых фактов понял, и потом подтвердилось, дело в том, что, когда я был в Америке, вероятно, в 1950 году, когда я ехал из Нью-Йорка в Вашингтон, мне был предоставлен особый вагон. Я тогда, может, это недостаточно оценивал; это, очевидно, был вагон для подслушивания, мне его выделили, чтобы послушать меня хорошенько. Со мной из Советского Союза врачи ехали без билетов, какая-то комиссия, о чем они могли болтать? Сталин ничего не говорил, а Поскребышев стал намекать: «Почему дали особый вагон?» Потом мне Вышинский говорит: Поскребышев говорит, проверяли вагон. Специальный вагон, конечно, не всем предоставляется. До этого не было, а тут почему-то предоставили. — А что, вы должны были отказаться? В чем могли вас подозревать? — Особые отношения, может быть, со мной. Это в ООНе когда я был. Это уже подозрительность была, явно завышенная. Ведь Сталин сам назначил Полину Семеновну наркомом рыбной промышленности — я был против! Она была единственным наркомом-женщиной по хозяйственным вопросам. На здравоохранении были, Крупская по народному образованию была замом, а по хозяйственным — не было. Сталин, с одной стороны, как будто выдвигал и ценил Полину Семеновну. Но в конце жизни он… Тут могли быть и антиеврейские настроения. Перегиб. И на этом ловко сыграли. 04.12.1972, 10.03.1977 29.09.1982 О выселении евреев— Верно ли говорят, что в последний год жизни Сталин хотел всех евреев из Москвы выселить? — Глупость, — отвечает Молотов. — Значит, он глупый человек? Этого о нем даже враги не говорили. Вообще, конечно, его состояние последнее время… — А проведение мингрелизации в Грузии, зачем это нужно было? — спрашивает Шота Иванович. — Странные вещи! Одного полковника МВД ночью должны арестовать. Он собрал друзей, сидит, ждет. Никто не пришел. Оказывается, в тот день все остановили. Я раньше сваливал все на Мгеладзе, но как он мог такие крупные аресты произвести мингрельцев, кадров Берии? Мгеладзе был исполнитель. — Конечно, — соглашается Молотов. — А это исходило от Сталина. — Да, безусловно. — Сплошной вымысел, — говорит Шота Иванович. — Ошибки. Вот такие были ошибки, — резюмирует Молотов. 18.12.1970 Процесс против Молотова?— Мне говорили, где-то на Западе была опубликована статья какого-то бывшего чекиста, что Сталин готовил против Молотова большой процесс. — Я впервые слышу, ничего не могу сказать… 10.04.1977 — Сталин ко мне относился весьма критически, почему — я до сих пор точно не знаю. Я чувствовал, что недоверие большое, а на чем оно основано, мне оставалось неясным. Арестовали жену не без его ведома, а по его указанию. Это тоже факт. — А не сказал Сталин, за что, почему? — Нет, нет. За плохие связи. В этом смысле Полина Семеновна немножко вольно себя вела. Это верно, с разными встречалась людьми. Тут я тоже, может быть, в какой-то мере виноват, поскольку категорически не высказывался против этого, и в основном-то связи были хорошие, но были и такие знакомства, которые не вполне оправданы и даже не оправданы. — Могли и ваши личные недруги поработать против вас. — Так, безусловно, были. Были, были. Среди членов Политбюро открытых противников я не имел, а скрытые были, конечно. А потом ее отправили в ссылку, в Казахстан. — А куда там, не знаете? — Как же, знаю. Как это называется, самый хлебный район в Казахстане… Кустанай! — Вообще как-то странно: вы — второй человек в государстве, а жена арестована… — У Калинина тоже жена была арестована… Она ничего из себя не представляла, но, вероятно, путалась с разными людьми. Мнительность такая, мнительность. Но на кого же он мог опереться? Вылез Хрущев, которому он тоже не доверял и гораздо раньше. И действительно, основания имел. Некоторые считают, что Сталина убил Берия. Я думаю, это не исключено. Потому что на кого Сталин мог опереться, если мне не доверял и видел, что другие не особенно твердо стоят? — Западные радиостанции подробно рассказывали о «деле врачей», что суд над ними должен был состояться пятого марта, и как раз в этот день умирает Сталин. Прозрачный намек, что его умертвили. — Возможно. Не исключено, конечно. Берия был коварный, ненадежный. Да просто за свою шкуру он мог. Тут клубок очень запутанный. Я тоже держусь такого мнения, что Сталин умер не своей смертью. Ничем особенно не болел. Работал все время… Живой был, и очень. …Я засиделся дотемна и стал собираться. — Времени много? — спросил Молотов. — Четверть восьмого. — Так должно быть светло. — Нет, почему же? Там уже темно. — Пока еще, видимо, не прояснилось. Там не уже темно, а еще темно. Еще темно — должно уже быть светло! Через полчаса уже будет светло! Тут я понял, что он перепутал утро и вечер. — А я думал, что мы утром еще заседаем, — засмеялся Молотов, — как в Политбюро бывало. Бывало, бывало. 11.03.1983 «С точки зрения революционной»— Так я говорю, что Сталин взял на себя такой груз, что, конечно, устал, ему было уже очень трудно в последние годы, когда он состарился, а главное, уже был очень утомлен, почти не лечился человек, он боялся лечиться. Для этого тоже были свои основания, потому что могли подсунуть — врагов у Сталина было достаточно. И он боялся, что через кого-нибудь ему что-нибудь подсунут либо в еду, либо в лекарство, — до крайностей доходил. В известной степени это можно понять, потому что действительно очень трудно было все это вынести на своих плечах. У него различные сомнения, видимо, возникали, а если кто-нибудь еще подначивал это дело, не хватало терпения, воли, чтоб все это перенести. Вот его положение. Несмотря на то что ко мне очень близко подходили события эти, я мог бы не уцелеть, если бы он еще пожил, я его считал и считаю великим человеком, выполнившим такие колоссальные и трудные задачи, которые не мог выполнить ни один из нас, ни один из тех, которые были тогда в партии. Говорить о Кирове, как о каком-то его заместителе в этом деле, — это такой абсурд для каждого грамотного, знающего дело коммуниста! Это настолько противоречило взаимоотношениям между Сталиным и Кировым и, прежде всего, мнению самого Кирова о своих возможностях! Это настолько противоречило, что только такой уголовный тип, как Никита, мог договориться до того, что Сталин будто бы имел специальную цель покончить с Кировым… В двадцатые годы и в начале тридцатых шла открытая, в печати, борьба идейного порядка, борьба пером, но без конца вести эту борьбу — это же за счет государства, за счет рабочего класса, сколько можно! Если пожалеть рабочий класс — люди трудятся и хотят улучшить свое положение, а мы продолжаем все время схватки и борьбу наверху и в печати — это, знаете, опаснейшее дело! — В связи с этим один чисто психологический вопрос, конечно, он имеет ближайшее отношение к политике, но все-таки психологический. Вы сказали, что могло случиться, что репрессии могли бы дойти и до вас, если бы… — Да, могли. — Могли? — Могли. — Тем более что Полина Семеновна… — Подкапывались здорово, — соглашается Молотов. — Вы представляете себе положение ваше: человек, который прошел огромный путь в партии, отдал здоровье, жизнь, все делу партии и строительству социализма, и вдруг бы вам пришлось оказаться за колючей проволокой! — Ну что ж такого? О господи! Я смотрю на это дело с точки зрения революционной, — спокойно отвечает Молотов. — Я мог не раз погибнуть за все эти годы — и до революции, и после. — Но ведь в данном случае не было ничего такого, что… — Вот я вам говорю, была моя определенная ошибка одна, а вероятно, не одна, еще кое-что заметили… …Собеседником Молотова на сей раз был человек, мягко говоря, не симпатизировавший ни Сталину, ни Молотову. Он долго просил меня устроить эту встречу, и мне, в свою очередь, стоило немалых усилий уговорить Молотова, который отмахивался: «Надоело мне всю жизнь бороться с оппонентами!» И все-таки согласился принять еще одного. Беседа продолжалась около четырех часов, были заданы самые острые вопросы, ни один не остался без ответа. После встречи по дороге к электричке собеседник сказал: «Побывать у Молотова — все равно что впервые попасть за границу. Если человек был настроен антисоветски, он еще более станет антисоветским, если убежден просоветски, сильней укрепится в своем убеждении. Любить его я не стал, но я потрясен его умом и реакцией. Да, этим ребятам, — задумался он, — пальца в рот не клади — отхватят! Какой же был Сталин, если у него был такой Молотов…» 03.02.1972 «Распускать организацию…»— Я не за то, чтобы всех жуликов сажать, а чтоб было время и с ними поиграть немножко. Играли с Троцким, играли с Бухариным. И сейчас тем более надо, так сказать, проявить неторопливость, а разумность. 08.03.1975 Говорим об оставшемся на Западе заместителе министра авиационной промышленности Федосееве. — Нестойкий? — говорит Молотов. — Жулик. Человек не признавал этого строя и считал, что все это ненадолго, поэтому хватай, бери, воруй! Как устояла Советская власть?.. Все это выдержать надо было. Сколько всякой гнили, дряни около власти бывает! …Говорим о Щелокове, о жуликах, попавших под суд. — Они подлежат расстрелу, — говорит Молотов. — Где была партийная организация, членами которой они были, почему это не обсуждается? — Руководство не критикуют. Знаете, как сейчас выбирают? — Я кое-что знаю. — Вас, между прочим, обвиняют, что вы ввели эту систему — нельзя критиковать руководство. — Это люди, которые и сейчас готовы защищать тех, — говорит Молотов, — которых надо судить и казнить. Способ такой нашли. — Обвиняют и Ленина сейчас. Пошло дальше. — До Господа Бога? — спрашивает Молотов. — И рано революцию вы сделали, и не надо вообще ее было делать. — Это не сейчас, это и до революции так начали говорить. — До революции начали, а потом вы заставили забыть это. — Забыть не заставишь. — Но все-таки вы сильно прижали. — В некоторой мере — да. Почему в парторганизациях все эти руководители не обсуждаются, как это могло сложиться? Но это не так важно, что свершилось, а почему это свершилось, надо объяснить. — Тогда очень много копать надо. — Немного. До Ленина не докопаетесь, и до Сталина не докопаетесь. — Но ведь и при вас не было, чтоб верхушку обсуждали, — говорю. — Хорошо. А теперь нужно, потому что допустили много очень таких вещей. Нельзя. Это непонимание демократизма, нежелание быть самостоятельными в этих вопросах… А вот не обсуждают этих вопросов. Нельзя это. Надо обсуждать. В случаях воровства и взяточничества надо распускать всю первичную организацию, исключив ее членов из партии. 10.11.1983,01.01.1985 Отвечай по суду— Отвечай по суду за свою лень, безответственность, нежелание работать. Работать надо заставлять, — говорит Молотов. — А кто будет заставлять? — Ни во что не верите, какой же вы коммунист? — обрушивается на меня он. — Ни во что не верите! Заставлять нельзя, люди не верят… Вот так все прониклись мещанскими настроениями, не верят в социализм. Это очень широкое распространение имеет. — Я смотрю на реальную жизнь. — Вот вы реалист, а Ленин не был реалистом? Но он верил и победил! А с такими настроениями нельзя победить. Это у вас временные сомнения, и просто вы не жалеете пустых слов иногда в свободное время. Это минутные разговоры. — Не жалею, потому что выговориться хочу. — Он переживает за то, что часть людей у нас неудачно сложилась по характеру, — вступается за меня один из гостей. — Это еще долго будет, — соглашается Молотов. — Я знаю, что Феликс — один из лучших моих друзей, поэтому я его ругаю только потому, что и временно не «адо впадать в такие пустые разговоры. Это пустой разговор в пользу бедных. Он и сам в это не верит, но бросается словами. — Ищем истину, — говорю я. — А вот истину надо искать. Только надо серьезно к этому относиться, иначе ее не найдешь, она спрячется. Обязательно спрячется. А потом придут контролеры: то ты не сделал, то не выполнил… Тут качество неподходящее, количество тоже… — Мы переживаем за то, что часть людей на больших постах неудачно сложилась, а это очень на многое влияет, — подает реплику гость. — Господи боже мой! — восклицает Молотов. — А это обязательно будет, потому что никакой Бог не может все это правильно растасовать, расставить, а мы хотим готовенькое глотать. — Часть дел страдает из-за этого. — Совсем не поэтому, — возражает Молотов. — Потому что у нас порядка нет. Много говорят, но мало делают. Когда-нибудь жизнь заставит делать то, что надо. — А мы страдаем из-за того, что кто-то неудачно что-то… — Мы не страдаем, а только разговариваем о страданиях, — делает вывод Молотов. 16.08.1979 Беспартийный — это рыхлый человекЯ пришел к Молотову с братом Александром. Он работает на военном заводе. — Ну конечно, среди коммунистов есть очень разные люди, я уверен, — рассуждает Вячеслав Михайлович. — У нас на заводе как к этому относятся? — спрашивает он Александра. — А у нас особо не смотрят, — отвечает он. — Как — не смотрят? — У нас смотрят в магазин. — Не все такие. Нельзя так считать. — Меня в партию заставляют вступать знаете почему? Чтоб субботу и воскресенье прихватывать бесплатно. «Вступай в партию!» А может я недостоин? Не пьешь — значит, достоин. — А вы не хотите в партию? — спрашивает Молотов. — А что мне там делать? — Какого года рождения? — Тысяча девятьсот пятьдесят второго. — Пятьдесят второго? Пора соображать. Беспартийный — это рыхлый человек. — Почему, Вячеслав Михайлович? — спрашивает брат. — Есть пустые места в голове обязательно. — И у партийных они тоже могут быть. — Могут. Но реже. Реже, имейте в виду. Так нельзя относиться. Взрослый человек, пора. Если у нас мало в партии будет народу, это будет плохо. У нас набрали лишних много, кого только не набрали! На всех нельзя положиться, нельзя их считать коммунистами, но отталкивать тоже не надо. Брат — сознательный человек, коммунист. — Но можно ведь быть порядочным человеком и без партии, — возражает брат. — Можно, конечно. Дай бог хотя бы и это. Но недостаточно. А почему нельзя дальше подняться? — говорит Молотов. — Если не будут порядочные вступать, то непорядочные полезут, — добавляю я. — Они и лезут! — восклицает Молотов. — Это всегда было, с первых дней Советской власти, тогда об этом открыто говорилось: в партию лезут примазавшиеся, надо бороться с примазавшимися. В 1918–1919 годах началось. Около власти будет обязательно набираться всякая шантрапа из примазавшихся. Это одна сторона дела, а другая сторона дела — честный человек должен соображать, не должен быть беспартийным, но партийным! То есть более сознательным, более надежным для борьбы с врагами Советской власти, с противниками коммунизма. Никакие отговорки на четвертого человека не могут считаться серьезными. Иначе человек чего-то не понимает, чего-то не хочет понять, а надо захотеть понять. Действительно понять и действительно драться за это. Он пишет (Молотов указывает на меня. — Ф. Ч.), а ему оказывают недовольство, ругают за то и другое. Нужна борьба. Если мы плохо ведем борьбу, тогда враг ее усиливает. Надо разобраться. — Мне все-таки непонятно, почему без партии нельзя обойтись? — спрашивает Александр. — Нельзя. Идет борьба. Надо быть либо на одной стороне, либо на другой. А так — болтаться между теми и другими… — Можно быть на стороне партии. — Ну как быть на стороне партии и не понимать, что надо помогать партии, надо участвовать? — Можно не быть в партии и помогать. — Нет, это будет полупомощь — ни то ни се, — резюмирует Молотов. 29.02.1980 Триста тысяч исключили…— Брежнев сказал на съезде, что триста тысяч коммунистов исключили из партии, — говорю Молотову. — Маловато, я считаю, — отвечает он, — на семнадцать миллионов! Ленин требовал очень крепких мер в таких случаях. 03.06.1981 Плохое рассуждениеНе в первый раз говорим о том, что в партию сейчас вступают карьеристы, а многие честные люди не стремятся в ней состоять. — Это не так просто получается, — говорит Молотов. — Теперь особенно. Люди уже, так сказать, осмотрелись. Что-то имеют свое. Не все нравится им в партии. И не торопятся вступать. Не торопятся. — Принимают в партию далеко не лучших, а иной смотрит: какой ты для меня пример, какой ты коммунист? — Конечно, есть разные характеры и разные направления у людей. Это сложное положение. — Человек рассуждает так: я лучше буду честно работать, выполнять свою норму, делать свое дело, а партия меня не касается. — Плохо, плохо, — замечает Молотов. — Я, мол, работник лучше, чем он, а он пусть на собраниях треплется. — Нет, это, конечно, рассуждение плохое. — Но очень распространенное. …Уехал я поздно. Снова на Рублево-Успенском шоссе меня остановили и направили в объезд по кольцевой дороге, потому что должен был проехать Андропов. В прошлый раз мне разрешили переждать на обочине в кустах, пока проедет. Сегодня не вышло… 19.04.1983 Закрытое письмо— Вячеслав Михайлович, нам читали закрытое письмо о воровстве и взятках. Потом выступил Василий Ардаматский и рассказал о Министерстве автомобильной промышленности. Вплоть до замминистра этим занимались. Госплан решает дать столько-то грузовиков в один район, а они дают в другой, где за каждый грузовик получают тройную цену, и эти деньги распределяют между собой. За это же надо сажать! — Расстреливать надо, — спокойно говорит Молотов. — Много допущено плохого. Все говорят о взятках, о воровстве. Но без борьбы. Никто не наказан. 04.12.1981 ПрячутМы говорим о воровстве, взяточничестве, коррупции в высшем эшелоне власти, в Краснодарском крае, в Донбассе — об этом только рассуждают, но в газетах всю правду не пишут. — Прячут, все прячут. Очень позорно, — говорит Молотов. — На некоторых процессах даже к расстрелу приговаривали. — И надо к расстрелу, — утверждает Молотов. — Люди в настоящее время ждут борьбы с одним из самых главных наших недостатков — недисциплинированностью. Нет дисциплины совершенно. — Намекают на то, что Андропов был кагэбэшником и начнет закручивать гайки. — Именно на это, видимо, рассчитывают. Некоторые хотят хорошего, но тоже надеются, вероятно, и поживиться. Из скрытых противников. — Андропова, да? — А он, видимо, так бесшумно работал. Судя по его биографии — как комсомолец, как партийный товарищ — неплохо. 09.12.1982 Примечания:5 В воспоминаниях бывшего молотовского переводчика В. Бережкова описано, как Вячеслав Михайлович ощутимо «уел» Риббентропа, когда тот заявил, что с Англией уже покончено. Беседа шла в бомбоубежище, поскольку англичане в это время бомбили Берлин: «Если Англия разбита, то почему мы сидим в этом убежище? И чьи это бомбы падают так близко, что разрывы их слышатся даже здесь?» — спокойно заметил «сухарь» Молотов. «Риббентроп смутился и промолчал», — пишет В. Бережков. — Гитлер ожидал от меня самого нежного, а я им так, — говорит Молотов. 6 В последние годы появились публикации о том, что Гитлера породила советская система, сталинский режим. Молотов не дожил до таких выводов. 58 Мой дедушка по материнской линии был объявлен кулаком и репрессирован фактически за то, что писал стихи, в которых критиковал районное начальство. Я впервые увидел его в 1967 году, когда он был реабилитирован и приехал ко мне в гости. Он рассказал, как их, сосланных, выгрузили с поезда в глухой уральской тайге и они сами стали строить себе жилье. Там он и остался жить после реабилитации, заведя новую семью. А прежняя — моя бабушка, мать, ее сестра и брат — жили нищенски, потому что бабушка, работая на шахте, получила тяжелую травму ноги и даже не получала пенсию. Дед говорил, что его сослали потому, что он выделялся среди односельчан любознательностью и стремлением учиться. — Я уже в 1912 году выписывал презервативы из Санкт-Петербурга, — с гордостью сказал он, — первым в селе сел на трактор при Советской власти. А то, что ты, внучек, пишешь стихи, это у тебя от меня! Я тебя по твоим напечатанным стихам и нашел. Я встретил его на Курском вокзале, в Москве его все удивляло, и удивление было образным. Так, про эскалатор в метро он сказал: — Как кишка колбасой, он людьми начиняется. Дед был могучий, огромный, Иван Евлампиевич. В другой свой приезд он взял на руки моего сына Ивана, своего правнука, и сказал: — Будь таким же здоровым, как твой прадед! Когда мы сели обедать, он сказал: — Что ты мне, внучек, в маленькую рюмку наливаешь? Давай в стакан! Правда, сейчас я ослаб. Раньше, бывало, две поллитры выпивал, и ничего, а сейчас мне хватает и одной. Когда я исправил свою оплошность насчет рюмки и стакана, дед неожиданно для меня первый тост поднял за Сталина: — Потому как он, внучек, был хозяин настоящий. Если бы не он, мы бы Советской власти головку открутили. — Почему? — Потому как не нужна она была крестьянину. — Это, может, кулаку она была не нужна. — А ты знаешь, кто такой кулак? Это тот, кто спит на кулаке, чтоб не проспать рассвет! Он говорил искренне, мой дедушка. Но и новая власть в ту пору не могла пройти мимо таких, как он. — А когда было лучше, при царе или?.. — спрашивал я у деда. — Я тебе скажу, внучек, при царе еды было больше. Ешь рыбу, — продолжал он, — а то при коммунизме мясо, может, и будет, а рыбы точно не будет. Так вот, при царе я питался неплохо, с одеждой было хуже. А главное, я хотел, но не мог учиться, потому что крестьянский сын. Революция произошла не потому, что были богатые и бедные, а из-за неравенства другого, социального, что ли, говорят. Чем хороша Советская власть — всех учит бесплатно. А я так и не выучился. Зато первым в селе трактористом стал. Стихи написал про одного местного начальника-дурака, меня и загребли… Отвезли нас на Урал, в тайгу, и — живите как хотите… 59 Смотрю на фотографии, где изображены совсем юные друзья — Вячеслав Скрябин, Александр Аросев и Виктор Тихомирнов. Они уже вступили на путь революционной борьбы. Какая страшная жизнь впереди у каждого из них! 60 Не раз мне доводилось слышать (но это только слухи!), что Сталин в конце сороковых годов стал готовить на свое место А. А. Кузнецова из Ленинграда. Однако не слухи, что он поручил Кузнецову как Секретарю ЦК курировать органы госбезопасности. Кузнецов провел совещание, где вскрыл много ошибок и нарушений, и устроил разнос аппарату ГБ. Выяснилось, что Берия собирался построить в Москве тюрьму типа Петропавловской крепости, где должны были томиться безымянные узники под номерами… «Берия и Маленков состряпали «дело» на Кузнецова», — сказал мне В. С. Семенов. 61 Владимир Иванович Тевосян, сын И. Ф. Тевосяна, рассказал мне, что его отца предупредил об аресте А. И. Микоян: «Только ты обязательно во всем признайся, все расскажи!» Иван Федорович пришел домой и написал письмо Сталину, а тот поручил Молотову разобраться… 62 — Как спите? — спрашиваю у Молотова. — В двадцать три ложусь, в шесть тридцать встаю. Ночью два раза встаю. По-стариковски полагается. Молодым был — не вставал. Ну а когда, конечно, чересчур напьешься… Редко — раз, а большей частью два раза приходится вставать. И обыкновенно засыпаю довольно быстро. 63 К Сталину обычно обращались «Товарищ Сталин». Даже австрийский канцлер начал свое послание так: «Глубокоуважаемый Генералиссимус товарищ Сталин!» Пожалуй, единственное такое обращение от буржуазного деятеля. |
|
||
| Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх | ||||
|
|
||||
