|
||||
|
|
ГЛАВА ТРЕТЬЯ,где предыдущее обсуждение завершается выводом, что третьей непременной особенностью всякого изобретения является его техническая осуществимость; здесь ведутся пространные рассуждения о мечтах, вдохновляющих изобретателей, о фантазиях реальных и нереальных, об уменье и неуменье видеть будущее; предлагается к осмотру коллекция разных видов человеческой косности; в заключение говорится о волшебном телевизоре, позволяющем заглянуть в грядущее  3.1. Если бы действительно все, что ново и полезно, могло называться изобретением, то, пожалуй, наибольшим изобретателем в мире оказался бы Иванушка из сказки. Кто верхом на печи по лесу ездил? Иванушка. А чем вам самодвижущаяся печь не паровоз? Движется. Труба. Из трубы дым. Может быть, это Иванушка изобрел первый паровоз? Кто, добыв перо жар-птицы, освещал им темный покой? Опять Иванушка. На перо жар-птицы похожи наши электрические лампы — тот же свет без огня. Может быть, это Иванушка изобрел электрическую лампочку? Кто летал по воздуху на ковре-самолете? И тут Иванушка. Может быть, это Иванушка изобрел самолет? В самом деле, почему бы не посчитать эти чудеса за изобретения? Новы? Новы! Полезны? Очень! Паровоз, самолет, лампочка! Один человек — и три величайших изобретения! Где еще найдешь такого? И все-таки нет Иванушке настоящего уважения и почета. Не поставлен ему памятник, не висят его портреты в аудиториях, не справляют его юбилеев. Почему такая несправедливость? Причина не только в том, что Иван личность сказочная, но и в том, что выдумки его сказочные и что так, как в сказке сказывается, дела сделать нельзя. Возьмите штабель наилучшего кирпича, самый красивый персидский ковер, какие хотите перья, а не сделать из них ни лампочки, ни паровоза, ни самолета. А раз сделать этих вещей нельзя, значит, это не изобретения! Это только мечты об изобретениях. Часто путают изобретение я мечту. Говорят, что изобретателем самолета был тот, кто придумал легенду о Дедале и Икаре. Старый мастер Дедал сделал себе и сыну Икару большие птичьи крылья. Он слепил их воском из множества птичьих перьев. Окрыленные люди полетели над морем. Но Икар слишком близко подлетел к солнцу. Солнечный жар растопил воск, и перья рассыпались, закружились в воздухе, как опавшие листья, а Икар упал в море. Эту сказку придумал поэт, а не изобретатель. Птичьих крыльев не сделать из воска и перьев, и на птичьих крыльях человеку не полететь. Эта сказка — тоже одна мечта. Говорят, что самолет изобрел гениальный художник Леонардо-да-Вин-чи, живший четыреста лет назад. Я был в Амбуазе во Франции, в домике, где умер Леонардо. Постоял у его смертного ложа. И дотронулся до креста, который он целовал перед смертью. В комнатах выставлены копии его чертежей, целый лес моделей, воспроизводящих его идеи. Тут были наброски ранообразных летательных машин, крылья и пропеллеры, аэропланы и геликоптеры. Наброски так и остались набросками. Леонардо машину не построил. Но если бы и сделать машину по его рисункам, она все равно бы не полетела. Леонардо был прекрасным инженером, но в этих набросках он проявил себя как художник и мечтатель. Наброски были не изобретением, а мечтой. Мечтой художника о летучей машине. 3.2.Страницы книги «Новая Атлантида», вышедшей из-под пера английского государственного деятеля и философа Френсиса Бекона в 1624 году, как бы высвечены молниями прозрений. Это роман-утопия. Потерпевшие кораблекрушение попадают на таинственный остров, в столицу Новой Атлантиды — некий город науки, где жрецы-исследователи ставят на службу человечеству скрытые силы природы. Посылая в грядущее стрелы научно-фантастических пророчеств, Бекон то и дело попадает в мишень. Что ни выстрел — то в яблочко! Вот лишь несколько прямых попаданий Бекона: «Использовали скалы, находящиеся среди моря, а также солнечные места на морском берегу для таких работ, для которых требуется морской ветер». «Мы использовали также быстрые водовороты и пороги, чтобы вызвать разные движения, требующие большой затраты сил…» «Есть приборы, создающие теплоту своим движением…» «…военные орудия и машины всякого рода. Порох по новым рецептам и греческий огонь, горящий в воде и неугасимый…» «Мы имеем корабли, лодки, которые могут плавать под водой и лучше обыкновенных переносить ураганы…» «Мы знаем свойства и пропорции, необходимые для полета по воздуху, наподобие крылатых животных…» «…печи, легко регулируемые и даже дающие теплоту солнца и небесных тел…» «…добились различного усиления лучей, так что нам удается отбрасывать свет на огромные расстояния…» «Нашли приспособление, приближающее вплотную к нашим глазам отдаленнейшие предметы…» «Приборы, имитирующие все членораздельные звуки, речи, слова и пение как людей, так зверей и птиц…» «…приборы для усиления… звука…» «Нашли способ переносить звуки на большое расстояние в трубах и других полых предметах…» «…пояса для плавания…» «Удалось воспроизвести всяческие иллюзии и обманы зрения, появление всякого рода теней и летающих изображений…» «…искусственные драгоценные камни…» «При помощи освещенных прозрачных тел мы получаем изображения отдельных простых цветов…» «В садах делаем опыты засева и прививки деревьев лесных и фруктовых. Мы делаем деревья больше, плоды их крупнее и приятнее, отличные от обычного вида…» «Животных можем выводить больше обычных размеров или делать карликами, скрещивая их…» «…комнаты здоровья, где воздух по желанию делается более влажным или сухим…» Шелестя страницами «Новой Атлантиды», англичане стараются представить Бекона изобретателем всех вещей, желая утвердить английское первенство во всех открытиях. Сгоряча ему приписываются изобретения: а) современных ветродвигателей; б) гидравлических турбин со спиральной камерой; в) электрических генераторов; г) современных порохов; д) подводных лодок; е) самолетов; ж) электропечей; з) прожекторов; и) телескопов; к) патефонов и магнитофонов; л) громкоговорителей; м) грампластинок; н) спасательных кругов; о) кинематографа; п) искусственных рубинов и алмазов; р) спектроскопов с призмой; с) мичуринских методов в биологии; т) кондиционирования воздуха и даже сверхсовременных лечебных палат — биотронов… а также и множества других предметов, для которых не хватило бы даже у, ф, х, ц, ч, ш, щ, э, ю, я. Под одну из этих букв алфавита англичане когда-то ставили даже все произведения Вильяма Шекспира. Сочинения величайшего поэта и драматурга одно время также пытались приписать Бекону. Теперь считают ошибкой стремление изобразить Бекона великим поэтом. А это было, пожалуй, справедливое стремление. Хотя произведения Шекспира не принадлежали Бекону, но английский философ был скорее уж поэтом, чем изобретателем. Он не реализовал своих идей и ни словом не подсказал потомкам, каким способом его выдумки можно осуществить. Поэты слагают легенды, художники пишут картины. Они прославляют новые, нужные людям вещи, не заботясь о том, как их осуществить. Иная забота гложет изобретателей. Изобретатель не только должен придумать новую, нужную людям вещь, но и сделать ее осуществимой, показать ее реальность. Только то, что осуществимо, может считаться изобретением. И в этом разница между вымыслом поэта и художника и домыслом изобретателя. 3.3.Муравьи возводят муравейники с запутанными лабиринтами ходов, пауки плетут затейливое кружево паутины, пчелы удивляют архитекторов правильностью своих сотов и экономией строительного материала. Но в том и отличие человека-изобретателя от пчелы, паука и муравья, что пчела, паук и муравей строят механически миллионы лет подряд одно и то же, а изобретатель-'человек каждый раз строит новое и перед тем, как построить свои машины, строит их в своей голове, в своем воображении. Изобретения создаются силой человеческой фантазии, человеческого воображения. Без уменья мечтать, фантазировать, нельзя было бы создать ничего из того, что создали люди в технике. И не так легко фантазировать, не легко даже краешком глаза заглянуть в будущее. Лет сто назад американский писатель Эдгар По, шутки ради, написал тысячу вторую сказку Шехеразады. Он заставил Шехеразаду рассказать калифу о пароходе и паровозе, телефоне и телеграфе, фотографическом аппарате. О совсем не чудесных, обыденных для нас вещах. И калиф, который верил всему, что рассказывала ему Шехеразада, и щадил ей жизнь, в этот раз усомнился, разгневался и велел казнить Шехеразаду. Калиф жил тысячу лет назад. Он глубоко верил в чудеса, но не мог поверить будущей яви. Так Эдгар По подтрунил над неспособностью людей вообразить, что будет через тысячелетие. Подтрунил, и сам попал впросак. Попытался сам предсказать, что будет через тысячу лет. Печатаем отрывок из «Писем с воздушного шара» Эдгара По. «Воздушный шар «Жаворонок». 1 апреля 2848 г. Я изнываю на грязном воздушном шаре с компанией человек в сто или двести… Мы делаем не более ста миль в час… Сегодня переговаривались со станцией плавучего телеграфа. Говорят… никто не верил в возможность положить проволоку по морю. А теперь… Что бы мы стали делать без атлантического телеграфа!» Телеграфная проволока через океан! Писатель считал это дерзкой мечтой, исполнение откладывал на тысячу лет и не в силах был предвидеть, что трех лет еще не пройдет, как уже проложат подводный кабель из Европы в Америку, через Атлантический океан. И что за семь лет до того, как писатель взялся за перо, уже лежал под водой в Европе первый телеграфный кабель. Вот как бывает: хотел шагнуть за тысячу лет, а отстал на семь![3] Аэростаты величаво проплывали над головой Эдгара По. Современники задирали голову и поругивали пузатых летунов за медлительность, неуклюжесть, за плохое управление. Их ворчанье жужжало в ушах Эдгара По, когда он пророчил будущее. Эдгар По не расстался с воздушными шарами, но исправил их по желанию современников, сделал быстрыми и управляемыми. А будущее возьмет да и посмеется над пророками. Возьмет да и не пойдет по назначенным путям. Возьмет да и огорошит людей нежданным, негаданным, небывалым. Появляется в небе самолет, и — по боку воздушные шары. Открывается летному делу новая дорога. Поди, угадай ее! Не в нарядных воздушных шарах было будущее летного дела, а в матерчатой бабочке с пропеллером на резинке, детской игрушке, появившейся десять лет спустя. Эдгар По полагал, что смотрит вперед, а на самом деле глядел назад. 3.4.Предлагается вашему вниманию грамота из воображаемого архива — докладная записка царю Гороху о ревизии научно-исследовательского учреждения, почтовый ящик № 3333. Царь государь! По твоему веленью, по твоему хотенью, заслуженным деятелем науки, профессором генералом Рукосуевым произведена ревизия научно-исследовательского учреждения, почтовый ящик № 3333. Докладываю, что учеными, конструкторами, изобретателями здесь проводится большая, плодотворная работа. Под твоим испытанным руководством еще теснее стала связь науки с производством. Успешно решаются важные задачи, продиктованные сложными требованиями сегодняшней международной обстановки. Есть, однако, и отдельные недостатки. Немалый вред науке приносят бездельники, уводящие исследования в область пустопорожних проблем. Особо выдающихся результатов добилась лаборатория артиллерийских систем. Здесь сооружается катапульта с рычагами из прочнейшего столетнего дуба, в которой будут впервые применены особенно тугие жгуты из сухожилий специально выведенной крепчайшей породы быков. Имеются все основания предполагать, что это уникальное орудие окажется способным метать камни на целый пуд тяжелее и на сто шагов дальше, чем все существовавшие ранее мощнейшие системы. Вхожу, государь, с просьбой наградить этих смелых и дерзких конструкторов полшапкой серебра. Только попустительством и беспринципностью руководства лаборатории можно объяснить, что в данном творческом коллективе длительное время подвизался бездельник. Не называю его имени, потому что он уволен с запрещением занимать должности в научно-исследовательских учреждениях. Проходимец занимался тем, что из серы, селитры и угля пытался составить какой-то порошок, пригодный разве в качестве слабительного для желудка, и пытался втереть очки доверчивой администра-ции, утверждая, что в нем будто бы и заключается «будущее» (??) артиллерии. Крупнейшие результаты достигнуты в лаборатории навигационных приборов. Здесь построена новая астролябия для определения положения кораблей по звездам, отличающаяся от прочих применением бронзовых шарниров и поэтому обладающая повышенной точностью. Коллектив ее создателей также достоин, государь, награждения полшапкой серебра. Но и тут, в этом здоровом коллективе, благодаря слепоте руководства, затесался бездельник. Боюсь прослыть лжецом, государь, докладывая, что один из здешних «работников» целый год убил на игру с кусочком руды, притягивающим железные предметы. Когда я не без горечи спросил дармоеда, какова его программа на будущий год, наглец цинично ответил, что намерен подвесить кусок руды на нитке (???) и глядеть, что получится. Разумеется, что финансирование работ было мною сейчас же прекращено, а дармоед сдан в пехоту. Полезно было бы судить его показательным судом, чтоб другим было неповадно пускать по ветру государственную казну. Вот, великий государь, лишь несколько примеров нашей неустанной заботы по дальнейшему укреплению связи науки с производством, по борьбе с бездельем и бесплодьем в науке. К сему руку приложил профессор генерал Рукосуев. Разумеется, царь Горох, полагавший, что командование и администрирование есть лучший способ руководства наукой, наложил на докладную записку резолюцию: «Одобряю». Но не очень потешайтесь над царем Горохом. Ну как, скажите, древнему полководцу представить себе нашу пушку, если он и будет знать, что появятся грозные орудия, которые мечут снаряды за десятки километров, вдребезги разбивают крепчайшие стены? Как ему представить эту пушку, если (говоря не слишком серьезно) древние армии были вооружены примерно так, как нынче мальчишки-озорники: луками и рогатками? Огромные рогатки — баллисты и катапульты возили на колесах, как орудия. Натягивали их пятнадцать человек, и пускали они камни в четверть тонны весом. И как бы ни силились древние полководцы представить себе наши пушки с их разрушительной силой, все бы им мерещились ремни, рычаги и колеса старинных баллист, и никто бы не подумал о порохе, о мгновенном порыве расширяющегося огненного газа. Ну как, скажите, древнему мореплавателю представить себе компас, если он и будет знать, что изобретен чудесный инструмент, показывающий страны света? В те времена моряки вели корабли по звездам и, конечно, искали бы новый прибор среди астрономических инструментов. А на самом деле — это магнитная стрелка. Совершенно особенная вещь. Кто мог думать, что не в сложных инструментах таится решение задачи вождения кораблей, а в чудном прилипчивом камне — магните? Ход событий, опыт жизни подсказывают нам, что будущее не за тем, что сегодня кажется главным и всесильным, но уже отживает свой век, а за тем, что, родившись, развивается, если даже выглядит оно сегодня ничтожной мелочью. Потому так трудно предсказывать будущее, воображать себе облик будущей машины. Потому так трудно стать изобретателем. 3.5.Считают, что одним из самых удачливых провидцев развития техники был замечательный французский писатель Жюль Верн. Утверждают, что ему принадлежат самые реальные фантазии. Намекают даже, что именно его, по справедливости, следует считать действительным автором многих великих изобретений. Эти тонкие намеки делают в первую очередь сами французы, стараясь утвердить французское первенство во всех изобретениях и открытиях. Когда наша ракета достигла Луны, французский журнал «Пари Матч» поместил фотографии советского лунного вымпела, а перед этим закатил целую серию иллюстраций из романа Жюля Верна «От Земли до Луны». Журнал как бы говорил читателям: «Ракету на Луну запустили советские люди, но и мы, французы, не лыком шиты. Наш Жюль Верн додумался до этого дела раньше всех». Особенно часто слышно утверждение, что Жюль Верн в своем «Наутилусе» предвосхитил появление подводной лодки. Но советский публицист Кирилл Андреев в своей книге «Три жизни Жюля Верна»[4] опровергает это. Он подробно рассказывает о том, как Жюль Верн рылся в книгах Национальной библиотеки, ища предков своего подводного корабля, который медленно строился в его воображении. В старом морском журнале еще за 1820 год Жюль Верн раскопал статью лейтенанта Монжери, описавшего первые подводные лодки. Французский иезуит Фурнье, побывавший на Запорожской Сечи, докладывал о хитрой военной выдумке земляков Тараса Бульбы, о «подводных пирогах», на которых запорожцы двигались под водой. То был просмоленный челнок, перевернутый вверх дном. К бортам его для погружения привязывались мешки с песком. Дыша воздухом под ее подводной крышей, несколько казаков могли подобраться незаметно к противнику. В пожелтелых отчетах английского Королевского общества за 1620 год сохранилось сообщение о подводной лодке голландца Дреббеля — длинной бочке с веслами, обтянутой кожей, на которой команда в пятнадцать человек опускалась под воды Темзы. Жюль Верн читал, оказывается, и об огромном подводном железном яйце — «Черепахе» американца Башнелла, воевавшего за освобождение родины от английского владычества. От подводной лодки Фультона, которую недооценил генерал Бонапарт, романист позаимствовал знаменитое название «Наутилус». Полуподводные торпедные лодки «двиды» участвовали в американской гражданской войне, и одна из них, «Ханли», 17 февраля 1864 года, за шесть лет до выхода романа Жюля Верна, взорвала двенадцатипушечный шлюп «Хаузатоник» с командой в триста человек. «Жюлю Верну, — замечает К. Андреев, — особенно запомнилась деталь: маленький подводный корабль, пожертвовавший своей жизнью, был втянут хлынувшей водой в пробоину, и, словно протаранив корпус гиганта, вместе с ним опустился на дно морское». Можно добавить еще историю подводной лодки русского генерала К. Шильдера, построенной лет за тридцать до романа Жюля Верна и в известном отношении более совершенной, чем его «Наутилус» — она была оснащена ракетным оружием. Разумеется, и мысль о полете на Луну не принадлежит Жюлю Верну. Она разгоралась и гасла в книгах целого тысячелетия — от сочинения Лукиана Самосатского, озаглавленного «Истинное повествование. Путешествие на Луну, Солнце…», написанного во II веке, до веселого романа Сирано де-Бержерака, где герой путешествует в межпланетном пространстве, обвязавшись склянками с росой, поднимающейся к Солнцу, в магнитных кораблях, подбрасывая вверх железный шар, увлекающий магнит, в хрустальном корабле, который толкает «сила сгустившегося света», и, наконец, — вероятно, верх нелепости с точки зрения самого Сирано! — в колеснице, начиненной ракетами и приводимой в движение силой фейерверка. Так свидетельствует биограф, влюбленный в своего Жюля Верна. Столь стремительно развивается техника завтрашнего дня, что нередко туго приходится писателям-фантастам, и все чаще попадают иные из них в такое же трудное положение, как всадник с флагом, пожелавший скакать впереди первого паровоза. У нас будет еще много возможностей убедиться, что изобретения не высасываются из пальцев романистов, а рождаются в реальной схватке с природой, на заводах, в лабораториях. Тут возникают самые смелые фантазии, самые смелые мечты, тут они становятся явью. Жюль Верн был велик потому, что хорошо понимал это. Он глубоко верил в науку, технику. Он умел подсмотреть ростки нового, реального, что развивается в теплицах лабораторий, и силой художественного воображения показать его грядущий расцвет. Потому так реальны фантазии Жюля Верна. Потому он и стал бессмертным писателем-фантастом. 3.6.Гениальный сатирик Свифт решил посмеяться над учеными и заставил своего Гулливера описать Академию прожектеров в городе Лагадо в фантастической стране Лапуту. Утонченно-язвительным пером набросал он портретную галерею абстрактных фантазеров, беспочвенных упрямых мечтателей, повернувшихся затылком к жизни. Но сатира в этой части удалась не совсем. Ход событий, диалектика жизни таковы, что несбыточное становится возможным, несуразное — целесообразным, непрактичное — практичным, фантастическое — реальным. И явись Свифт сегодня, опираясь на плечо своего Гулливера, в институты современных академий, он в смущении убедился бы в том, что немалое число научных проблем, осмеянных им как нелепость, стало ныне центральными научными проблемами века. Так раскроем же томик «Путешествий в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей». Перед нами часть третья, глава пятая. Автору дозволяют осмотреть Великую Академию в Лагадо. Подробное описание Академии искусств, изучением которых занимаются профессора. «Первый ученый, которого я посетил, — иронизирует Свифт устами своего Гулливера, — был тощий человечек с закопченным лицом и руками, с длинными, всклокоченными и местами опаленными волосами и бородой. Его платье, рубаха и кожа были такого же цвета. Восемь лет он разрабатывал проект извлечения солнечных лучей из огурцов; добытые таким образом лучи он собирался заключить в герметически закупоренные* склянки, чтобы затем пользоваться ими для согревания воздуха в случае холодного и дождливого лета». Полтораста лет спустя с этим свифтовским безумцем горделиво и весело сравнил себя великий русский ученый Климент Аркадьевич Тимирязев. Свою знаменитую Крунианскую лекцию в Лондонском королевском обществе он начал так: «Когда Гулливер в первый раз осматривал академию в Лагадо, ему прежде всего бросился в глаза человек сухопарого вида, сидевший, — уставив глаза на огурец, запаянный в стеклянном сосуде. На вопрос Гулливера диковинный человек пояснил ему, что вот уже восемь лет, как он погружен в созерцание этого предмета в надежде разрешить задачу улавливания солнечных лучей и их дальнейшего применения. Для первого знакомства я должен откровенно признаться, что перед вами именно такой чудак. Более тридцати пяти лет провел я, уставившись если не на зеленый огурец, закупоренный в стеклянную посудину, то на нечто вполне равнозначащее — на зеленый лист в стеклянной трубке, ломая себе голову над разрешением вопроса о запасании впрок солнечных лучей…» Тимирязев прославился тем, что свершил бессмертный научный подвиг, приоткрыв завесу над тайной накопления солнечной энергии в живом зеленом листе — тайной фотосинтеза. Под воздействием света негорючие вещества неорганической природы превращаются в растениях в топливо, несъедобные элементы почвы и воздуха превращаются здесь в продукты питания — белки и углеводы. Работы современных ученых убеждают, что полное раскрытие тайны фотосинтеза произойдет в недалеком будущем. И тогда начнется эра, еще более щедрая, чем век атомной энергии. Мы сегодня со сложным чувством вспоминаем свифтовского чудака, когда думаем о заводах «растительного горючего», поставляющего топливо вместо лесов, скудеющих ныне под пилой дровосека; когда мечтаем о заводах растительных продуктов питания, в которых аппаратура солнечной синтетической химии заменит сельскохозяйственные культуры на полях, поливаемых потом земледельца. «Войдя в другую комнату, — продолжает Свифт от имени Гулливера, — я чуть было не выскочил тотчас же вон, потому что едва не задохся от ужасного зловония. Однако мой спутник удержал меня, шепотом сказав, что необходимо войти, иначе мы нанесем большую обиду; таким образом, я принужден был следовать за ним, не затыкая даже носа. Изобретатель, сидевший в этой комнате, был одним из старейших членов Академии. Лицо и борода ученого были бледно-желтые; его руки и платье были испачканы нечистотами. Когда я был представлен, он крепко обнял меня (любезность, без которой я мог обойтись). С первого дня своего вступления в Академию он занимается превращением человеческих экскрементов в те питательные вещества, из которых они образовались, путем отделения от них нескольких составных частей, удаления краски, сообщаемой им желчью, выпаривания зловония и выделения слюны. Город ежедневно отпускал ученому посудину, наполненную человеческими нечистотами, величиной с бристольскую бочку». Да, пожалуй, уж слишком жестоко, беспощадно изобразил сатирик ученого, занимающегося, по нашим понятиям, нужным, благородным делом. Если б персонаж сатиры Свифта не был выдуман, а существовал в действительности, мы сочли бы его предтечей тех ученых, которые открывают пути к звездам. Не бывает нынче ни одной космонавтической конференции, на которой не стояли бы доклады по проблемам, которые тщетно пытался решить свифтовский персонаж. Помню, в детстве мне пришлось быть в гостях у великого соратника К. Э. Циолковского, замечательного инженера Ф. Цандера, разрабатывавшего идеи космических кораблей. У него в горшочках со стеклянными опилками, пропитанными отбросами, выращивались различные растения. Здесь, в этих горшочках, решалась проблема облегчения веса космических кораблей. Ведь при дальних звездных рейсах, как при дальних морских путешествиях, на борту корабля должен быть громадный запас питьевой воды и пищи. Лишний груз перегружал бы корабль. А поэтому ученые работают над «замкнутым экологическим циклом», при котором возникает круговорот воды и пищи и сухих и жидких шлаков организма. С помощью химической аппаратуры очищается моча, превращаясь снова в хрустально прозрачную питьевую воду, экскременты же превращаются в плодоносную среду, на которой выращиваются растения. Так выплыла на свет знакомая ныне каждому водоросль — хлорелла. А проблемам регенерации мочи посвящена сегодня громадная научная литература. Перефразируя гордую строчку Маяковского, скажу, что создатель космических кораблей это поэт и мечтатель, инженер и ученый, ассенизатор и водовоз. «Там же, — продолжает подшучивать Свифт, — я увидел другого ученого, занимавшегося пережиганием льда в порох. Он показал мне написанное им исследование о ковкости пламени, которое он собирается опубликовать». Теперь видно всем, что шутить надо было осторожнее. Лед сегодня пережжен в порох. Это сделали люди, с которыми шутки плохи. Мы имеем в виду создателей водородной бомбы. Ядра атомов дейтерия, содержащегося в воде, слились в ядра гелия, образуя термоядерную реакцию в виде грандиозного взрыва. Мы найдем еще случай рассказать о том, как изобретатели работают над мирным применением термоядерных реакций, силясь научиться управлять ими. Ироническая фраза Свифта звучит как пророчество. Ученый, что стремился превратить лед в порох, написал исследование о «ковкости пламени». Какой странный намек! Ведь и многие из тех, кто работает нынче над созданием управляемых термоядерных реакций, точно так же как бы «куют» пламя. Они силятся стиснуть высокотемпературное пламя — плазму ударными сжатиями магнитных полей. Похвально, что свифтовский персонаж собирался опубликовать свое исследование. Мы тоже стоим за то, чтобы работы по мирному использованию термоядерных реакций широко публиковались и не составляли секрета! Но обо всем этом речь пойдет впереди. «Там был также, — язвит Свифт, — весьма изобретательный архитектор, разрабатывавший способ постройки домов, начиная с крыши и кончая фундаментом. Он оправдывал этот способ ссылкой на приемы двух мудрых насекомых — пчелы и паука». Сегодня не нужно привлекать пчелу и паука для оправдания этого нового прогрессивного метода строительства. Можно сослаться на прекрасный опыт постройки советского павильона на Всемирной выставке в Брюсселе. В основе его — стальной каркас, подвешенный на стальных же колоннах. Такую конструкцию можно строить, начиная только с крыши. «Я вошел, — пишет Свифт, — в следующую комнату, где стены и потолок были сплошь затянуты паутиной, за исключением узкого прохода для изобретателя. Едва я оказался в дверях, как последний громко закричал мне, чтобы я был осторожнее и не порвал его паутины». Изобретатель предлагал использовать паутину в качестве нити для тканей. Он искал какую-то пищу для мух, поедаемых пауками, в виде камеди, масла и других клейких веществ, чтобы придать таким образом большую плотность и прочность нитям паутины. Свифту было невдомек, что проблемой упрочения и использования паутины занимались выдающиеся ученые его времени, среди них знаменитый Реомюр. Свифт рассматривал подобные поиски как непроходимую глупость и не подозревал, что это направление мыслей восторжествует, что наступит время, когда будут созданы ткани из синтетических волокон, получение которых во многом похоже на паутину, выпускаемую пауком. Свифт рассказывает об универсальном искуснике, в распоряжении которого две большие комнаты, наполненные удивительными диковинками, и пятьдесят помощников. Одни сгущ|ают воздух в вещество сухое и осязаемое, извлекая из него селитру и процеживая водянистые и текучие его частицы; другие размягчают мрамор для подушек и подушечек для булавок. Как бы был смущен сатирик, узнав, что селитру нынче, без всяких шуток, производят из воздуха и умеют, кроме того, отлично сжижать воздух и «процеживать» разные его текучие частицы! У нас будет случай рассказать подробнее о логической машине, над попыткой создать которую всласть поиздевался Свифт. Он не смог предвидеть появления электронных машин, способных писать хоть и примитивные, но все же стихи и сочинять музыку, пусть и нехитрую, не смог предвидеть рождения кибернетики — повелительницы будущего. Свифт бессмертен там, где бичует пороки человечества, порожденные уродством эксплуататорского строя. Бич сатирика сломался, когда он замахнулся на мечтателей. Да, неблагодарна участь того, кто хоть шутки ради попытается усомниться в безграничных возможностях человечества! 3.7.То, что кажется сегодня мечтой, фантазией, завтра может осуществиться — стать изобретением. Но бывают все-таки бесплодные фантазии, бесплодные мечты. В один из дней 1775 года ученый секретарь Парижской академии наук, почти не глядя, отстранил пачку изобретательских предложений. — Сожгите этот бред, — приказал он канцеляристу. Канцелярист всплеснул руками. Он служил в Академии сорок лет и не знал таких порядков, чтобы изобретения, не рассматривая, сжигали. — Отныне Академия будет молчать, — отрезал секретарь и перешел к очередным делам. Так начался знаменитый в истории изобретений «заговор молчания». Он возник в Парижской академии наук и охватил постепенно все ученые учреждения мира. Академики порешили единодушно не принимать и не рассматривать проектов «перпетуум мобиле» и авторам их ничего не отвечать. Что такое «перпетуум мобиле?» Это спрашивает Мартин в пушкинских «Сценах из рыцарских времен». И Бертольд отвечает: «Perpetuum mobile, то есть вечное движение. Если найду вечное движение, то я не вижу границ творчеству человеческому… видишь ли, добрый мой Мартин: делать золото задача заманчивая, открытие может быть любопытное — но найти perpetuum mobile… о!» Это «О!» восхищенно повторяли изобретатели в течение нескольких веков. Изобретатели мечтали о машине вечного движения. Чудесной безостановочной машине, которая бы вечно двигала себя сама, не нуждаясь ни в топливе, ни в ветре, ни в потоке воды, ни в электрическом токе. Вечном двигателе для любых полезных человеку машин. Изобретатели старались придумать вечный двигатель так же упорно и безуспешно, как алхимики искали секрет делать золото. Эта мысль кружила головы людям. Задача казалась близкой, решимой. Машина уже вертелась в их головах, стояла перед глазами. Казалось, руку протяни, и вот она, машина! Но тщетно! Ошибка. Просчет. Обман… И бывало с ума сходили люди от неотступного думанья. Разорялись дотла. По миру шли с сумой. И все перед ними маячила безостановочная машина без угля, без ветра, без потока воды… Изобретателей этих был, и тысячи, и одного из них, Александра Щеглова, описал Салтыков-Щедрин под именем мещанина Презентова в повести «Современная идиллия». «Мещанин Презентов… был человек лет тридцати пяти, худой, бледный, с большими задумчивыми глазами и длинными волосами, которые прямыми прядями спускались к шее. Изба у него была достаточно просторная, но целая половина ее была занята большим маховым колесом, так, что наше общество с трудом в ней разместилось. Колесо было сквозное со спицами. Обод его, довольно объемистый, сколочен был из тесин, наподобие ящика, внутри которого была пустота. В этой-то пустоте и помещался механизм, составлявший секрет изобретателя. Секрет, конечно, не особенно мудрый, вроде мешков, наполненных песком, которым представлялось взаимно друг друга уравновешивать. Сквозь одну из спиц колеса продета была палка, которая удерживала его в состоянии неподвижности. — Слышали мы, что вы закон вечного движения к практике применили? — начал я. — Не знаю, как доложить, — ответил он сконфуженно, — кажется, словно бы… — Можно взглянуть? — Помилуйте! За счастье… Он подвел нас к колесу, потом обвел кругом. Оказалось, что и спереди, и сзади — колесо. — Вертится? — спросил Глумов. — Должно бы, кажется, вертеться… Капризится, будто… — Можно отнять запорку? Презентов вынул палку — колесо не шелохнулось. — Капризится! — повторил он. — Надо импет дать. Он обеими руками схватился за обод, несколько раз повернул его вверх и вниз и, наконец, с силой раскачал и пустил — колесо завертелось. Несколько оборотов оно сделало довольно быстро и плавно — слышно было, однако ж, как внутри обода мешки с песком то напирают на перегородки, то отваливаются от них — потом начало вертеться тише, тише; послышался треск, скрип, и, наконец, колесо совсем остановилось. — Зацепочка, стало быть, есть, — сконфуженно объяснил изобретатель, и опять напрягся и размахал колесо. Но во второй раз повторилось то же самое. — Трения, может быть, в расчет не приняли? — И трение в расчете было… Что трение? Не от трения это, а так… Иной раз словно порадует, а потом вдруг… закапризничает, заупрямится— и шабаш!». Зацепочка! И чем больше проектов вечного двигателя рассматривали ученые, тем тверже убеждались, что в каждом проекте где-нибудь да таится какая-нибудь «зацепочка», которая все сводит насмарку. Еще выяснилось, что проекты вечных двигателей похожи друг на друга и из сотен проектов не наберется и десятка различных систем. Год из года, на разных концах земли, изобретателям приходят в голову одни и те же мысли. Изобретатели вечного двигателя напоминают белку в колесе. Они кружатся в замкнутом круге идей. И если выхватить из камина Парижской академии наук ежедневную обгорелую папку изобретений, то окажется в ней примерно вот что. Проект первый. Мотор и генератор сидят на одном валу. Мотор должен вертеть генератор, а генератор давать ток, который двигает мотор. Так они и будут крутить друг друга, и, быть может, удастся прицепить к ним еще какую-нибудь машину, чтобы крутилась даром. Это сравнительно хитрый проект, но и тут сидит зацепочка. А чтобы разобрать, какая, взглянем на второй проект — попроще и поглупее. Вот насос и водяное колесо. Вода, вытекая из бака, кружит колесо, а колесо двигает насос, который гонит воду обратно в бак. Изобретатель полагает, что машина будет вертеться вечно. Кажется, это вполне своеобразный проект, не похожий на первый. Тут вода, а там электричество. Но в учебниках физики принято приравнивать электрический ток к потоку воды, электромотор — водяному колесу, а генератор — к насосу. Если взять да и приравнять так и наши оба проекта, то окажется, что они близнецы. Чтобы вода в баке не убывала, насосу надо подкачивать в бак ровно столько воды, сколько ее вытекает на колесо. Вода в машине должна двигаться, как бесконечная цепь, перекинутая через блок: сколько звеньев спускается вниз, столько звеньев поднимается кверху. Бесконечная цепь, свисающая с блока, — вот вам третий проект! Но уже тут все видят, что машина получилась дурацкая. Цепь уравновешена с обеих сторон и, конечно, не будет двигаться сама, да еще вечно, без особого на то щучьего веления. А раз не будет двигаться цепь, значит, не пойдут и колесо с насосом и динамо с электромотором— это все похожие машины. Дурацкая цепь! — вот где зацепочка. 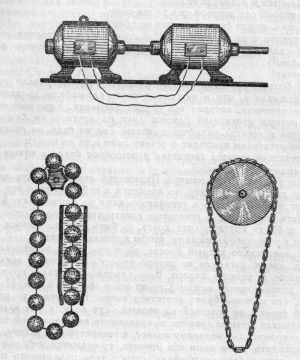 Изобретатели начинают беспокойной мыслью сгоряча перебирать в голове всевозможные комбинации, какие только могут выдумать и представить, в надежде перехитрить дурацкую цепь. Предлагают четвертый проект. 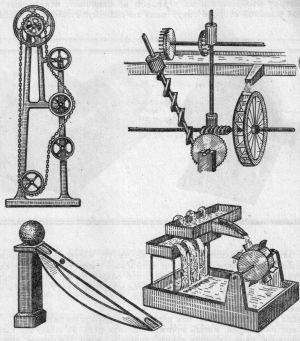 Левую сторону цепи оставляют свободно свисать вниз, а правую пускают по роликам. Изобретатели смотрят на чертеж и соображают: — Та сторона цепи, что идет по роликам, всегда длиннее висящей свободно, а следовательно, и тяжелее. Значит, она все время будет перевешивать, и цепь пойдет вращаться, сползая по роликам вниз, и никогда не остановится! Смотрят изобретатели на чертеж и не замечают, что разные звенья цепи на длинной стороне тянут вниз по-разному. Некоторые звенья спо койно лежат на роликах и вообще не тянут, часть звеньев лениво соскальзывает с роликов и тянет не всей своей тяжестью. И если сложить силы тяги всех звеньев, то окажется, что общая их тяга на длинной стороне такая же, как и на короткой. Обе стороны будут уравновешивать друг друга, и цепь не шелохнется. Опять зацепочка! Снова бессонная забота: как перехитрить дурацкую цепь? И вот блестящий, пятый проект! Сделать цепь из плавучих шаров да и пропустить одну сторону сквозь трубу с водой. Те шары, что сидят в воде, постоянно будут стремиться всплыть и тянуть за собой вверх всю цепь. Тут уж наверное цепь завертится. Завертится, непременно завертится! Но — в обратную сторону. Как ни будут стараться шары всплыть вверх, а все равно им не вытянуть цепи. Столб воды в трубе всей своей тяжестью давит на нижний шар, затыкающий дырку, и это давление пересилит. Столб воды выпихнет нижний шар, трубка пойдет выплевывать в дырку шар за шаром, цепь начнет продвигаться вниз, в обратную сторону, пока не выплещется вся вода! Стоп машина! И здесь зацепочка! Невозможно перехитрить дурацкую цепь! Изобретатели призывают на помощь неиссякаемую силу магнита. Перед вами шестой старинный проект. На красивом постаменте, похожем на памятник, поставлен большой шар. Это сильный магнит. На вершину постамента ведет наклонная дорожка. У подножия дорожки лежит железный шарик. Магнит притягивает шарик, и он вкатывается вверх по наклонному пути. Но тут изобретатели подстраивают шару каверзу — на пути пробивают дырку. Ожидают, что шар юркнет в дыру, скатится обратно к подножию, а там его снова подхватит магнит. Получится вечное движение. Ничего из этой затеи не выйдет! Если уж осилил магнит, смог вкатить шарик по наклонной дорожке, то уж — будьте спокойны! — он его не упустит в дырку. Он протащит его мимо дырки, прилепит к себе и будет держать, как на припае. Не так он прост, этот магнит. Где еще искать? За что хвататься? Может быть, фитиль? Тот фитиль, что в настольной лампе непрерывно сосет керосин, подымая его вверх, к огню. Взять большой, как простыня, фитиль, окунуть его в пруд, а другой конец забросить вверх, в желоб водяного колеса. И пускай этот фитиль подсасывает воду к верхнему концу, а оттуда она будет капать в желоб и стекать обратно в пруд, покрутив колесо по дороге. Все напрасно! Все без толку! Если уж сумел фитиль подтянуть воду к желобу вверх, то уж он сумеет ее и удержать, и ни капли не пустит в желоб. Тот же грех, что в предыдущем проекте. Зацепочка! Зацепочка! Везде зацепочка!  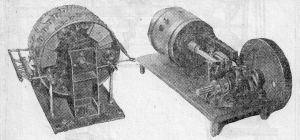 И выходит, что и до того, как созрел и оформился знаменитый «заговор молчания» Парижской академии наук, уже окружал изобретателей вечного движения иной упорный глухой заговор — заговор вещей. Люди работали над изобретением паровых машин — паровые машины у них выходили. Люди работали над изобретением электрических моторов — и электромоторы у них выходили. Люди работали над изобретением водяных двигателей — и они у них тоже выходили. И людям помогали в этом и цепи, и магниты, и плавучие шары. Вечные же двигатели у изобретателей не выходили, не выходят и не выйдут никогда. Вещи вставали здесь людям наперекор. Все протестовало и сопротивлялось: от звена железной цепочки до магнита и лампового фитиля. Дело в том, что люди, которые изобретали паровые машины и электромоторы, изучали законы природы, считались с этими законами и, подчиняясь этим законам, подчиняли природу себе. А изобретатели вечных двигателей не присматривались к законам природы, не изучали этих законов, они держали в голове одну свою упрямую идею и старались ее осуществить, не считаясь ни с чем. Они бросались на штурм природы слепо, словно Дон-Кихот на штурм ветряных мельниц. А природа жила, работала, двигалась по своим законам, и она с размаху тяжко ударяла оземь горе-изобретателей, рушила их надежды, развеивала мечты. Если бы изобретатели присмотрелись к законам природы, они бы поняли, что всякие двигатели, какие только есть на земле, обязательно работают за счет чего-то: за счет ли энергии топлива, сгорающего в топке, энергии ветра, энергии падающей воды; этого требует закон сохранения энергии — всемогущий закон природы, правящий миром. А изобретатель, желающий построить машину, одна часть которой работает за счет другой, похож на барона Мюнхгаузена, который верхом на коне увяз в болоте и старается вытащить себя и коня, ухватившись рукой за собственные волосы. 3.8.И все-таки… Представьте себе костер, где могучим, почти неугасаемым огнем горит горстка топлива. Проходят годы, и топливо не только не иссякает в костре, но, наоборот, прибавляется, накопляется, и вот 'уже два костра можно разжечь там, где пылал один. Вообразите теперь целую россыпь волшебных костров и задумайтесь над возможными темпами их размножения, и тогда вы придете к выводу, что число их нарастает в геометрической прогрессии, как растет колония микроорганизмов, размножающихся посредством деления. Так, возможно, и будет расти энергетика грядущего мира. Когда пишут о костре, где могучим и почти неугасаемым огнем горит горстка топлива, то читатель уже догадывается, что рассказ ведется не о простом, а о ядерном топливе, не об обычном, а о «втором огне», порождаемом реакцией ядерного распада, не о костре, а о ядерном реакторе, освобождающем атомную энергию. И что искать этот костер надо не в лесу, а в одном из наших атомных институтов. Читатель не ошибся. Мы нашли этот чудесный реактор в одном из громадных институтов Государственного комитета по использованию атомной энергии, в здании по соседству с первой в мире атомной электростанцией. Его марка БР-5. Инициалы расшифровываются как «быстрый реактор», цифра 5 — как тепловая мощность в 5 мегаватт. Он успешно работает несколько лет. Он построен под руководством лауреатов Ленинской премии академика А. И. Лейпунского и профессора О. Д. Казачковского, а также инженера М. С. Пинхасика. Мы пришли сюда тогда, когда исход эксперимента был безупречно ясен, когда с торного пути исследователей рассеялись многие призраки, порожденные недостаточным знанием, — «призраки пещеры», как назвал их в старину философ Бекон. Помещения атомных реакторов похожи друг на друга, в особенности для непосвященного глаза; крепостной характер их архитектуры определяется бетонными массивами биологической защиты; всюду множество панелей контроля и управления, иногда не умещающихся на стенах залов и поэтому расположенных рядами, как шкафы в библиотеке; за тяжелыми, как в сейфе, дверцами — могучие сплетения трубопроводов, массивные тела электромоторов, насосов. Но, быть может, ни в одной области энергетической техники инженерная фантазия не рождала столько принципиально разнообразных конструкций, как в семье атомных реакторов. Как устроен реактор первой в мире атомной электростанции, мы знаем. Он построен из стержней из недеятельного, нерасщепляющегося урана-238, обогащенного до 5 процентов деятельным расщепляющимся ураном- 235. Таким образом, 95 процентов всей массы урана служит здесь ненужным балластом. Реактор работает на медленных нейтронах. Замедлителем нейтронов здесь служат графит и вода. БР-5 отличается тем, что работает на быстрых нейтронах. Он составлен из тепловыделяющих стержней, заполненных концентрированным ядерным горючим — плутонием, элементом, не существующим в природе и искусственно созданным современной «алхимией». Реактор не нуждается ни в каком замедлителе. Просто надо строжайше рассчитанным образом сблизить стержни, чтобы в их строю возникла цепная реакция, нарастающий вихрь нейтронов, расщепляющих ядра плутония. Автоматические регуляторы придают ей мирное течение. Регулирующие органы реактора оригинальны: это пара никелевых браслетов общим весом в тонну, охватывающих рабочую зону, где идет цепная реакция. Они выполняют роль отражателя или, грубо говоря, роль пастухов, возвращающих заблудшие нейтроны обратно в зону. Органы управления сложны, они расчленены на более мелкие подвижные детали, как крыло самолета на закрылки. Всем этим хозяйством управляет при помощи тросов автоматическое устройство, которое ведет цепную реакцию, как автопилот ведет самолет. В аварийных случаях браслеты срываются вниз, нейтроны утекают из зоны, цепная реакция угасает. Рабочая зона БР-5, где бушует цепная реакция, по объему не превышает ведра и раз в сто меньше объема рабочей зоны реактора атомной электростанции. Мегаватты тепловой энергии освобождаются в ничтожном объеме. А отсюда возникает сложнейшая проблема теплосъема — отвода полезного тепла. Даже ураганный поток газа, обтекающего стержни, не способен отвести выделяющееся тепло. О воде же и думать нечего. Ведь вода — замедлитель нейтронов, и поэтому нарушит самый принцип реактора. Расчет показывает, что с отводом тепла здесь управится лишь быстрый ручей из расплавленного металла; наиболее подходящий — легкий и легкоплавкий — натрий. Даже самый далекий от техники человек посочувствует конструкторам, услышав это слово. Он, конечно, помнит по школьным опытам беспокойное поведение этого своеобразного вещества. Натрий мирно хранится в банке под слоем керосина — пособника поджигателей, но воспламеняется в воздухе и красиво взрывается в воде — пособнице пожарных. И все-таки натрий приручен и впряжен в работу. Он прогоняется насосами через рабочую зону по замкнутой трубе. Его температура достигает 500 °C. От воспламенения его предохраняет инертный газ аргон. Через иллюминатор, остекленный защитным зеленоватым стеклом, мы глядим на могучие трубы натриевого контура, заключенные в замкнутом наглухо железобетонном каземате. Приблизиться к контуру опасно — он несет в себе радиоактивность, равную нескольким килограммам радия. Конечно, никому не пришло в голову направить трубу натриевого контура прямо в паровой котел. Он обогревает лишь промежуточный контур, в котором циркулирует эвтектический сплав натрия и калия, остающийся жидким даже при комнатной температуре. Промежуточный контур нерадиоактивен. Он подогревает парогенератор, в котором образуется пар средних параметров, способный вращать турбину. Эти замкнутые контуры, сцепленные, как звенья цепи, образуют как бы кровеносную систему реактора. Только идеально чистый натрий циркулирует в ней безупречно. Примесь в нем кислорода в пять тысячных процента порождает окислы, вызывающие коррозию и закупорку труб, наподобие атеросклероза. Поэтому в помещении реактора находится перегонный аппарат для дистилляции натрия. Поэтому конструкторы включили в натриевый контур холодильник со стальными опилками, поглощающий окислы. В «организме» реактора он выполняет функции почки, очищающей кровь от вредных примесей. На какой бы узел реактора ни падал взор, всюду видишь следы огромных трудностей, преодоленных с такой естественной простотой, какая встречается лишь в классических инженерных решениях. Вот цепочка контуров аварийного теплосъема. Ясно каждому, что аварийная остановка насосов, гонящих металлы по контурам, приведет к гораздо более серьезным последствиям, чем внезапная остановка воды в горящей газовой ванной колонке. Ведь тепловыделение в реакторе не прекращается сразу. На этот случай ученые предусмотрели цепочку контуров, в которой тепло из рабочей зоны отбирается системой естественных восходящих течений: восходящим течением нагретого натрия, восходящим течением нагретого эвтектического сплава, наконец, восходящим током нагретого воздуха в высоченной фабричной трубе. Остроумно загрузочное устройство реактора, позволяющее заменить любой стержень рабочей зоны и при этом не потерять аргон, и не спустить воздух, и не вызвать возгорания натрия, налипшего на стержне, и не пострадать самому от излучения. По шутливому выражению изобретателя, создававшего эту пробку, надежно закупоривающую «духа в бутылке», тут пришлось решать логическую задачу, подобную той, как переправить через реку одновременно волка, козу и капусту. Но боюсь, что обилие технических деталей утомит читателя. Перейдем к выводам. Они серьезны и значительны. Советские ученые развеяли призраки, порожденные недостаточным знанием, пугавшие мировую науку, заставлявшие сомневаться в скорейшем осуществлении идеи быстрых реакторов. Они показали, что натрий не так страшен, как его малюют. Он даже надежнее и удобнее воды, потому что работает под нормальным давлением и не так разъедает трубы. Они прогнали еще более грозный призрак, пророчивший, что под бомбардировкой неслыханно плотного потока нейтронов и ударами бесчисленных атомных микровзрывов в металле будет создаваться наклеп, чудовищно уродующий конструктивные элементы. По счастью, оказалось, что в высокотемпературной рабочей зоне реактора происходят одновременно и наклеп и отжиг, отчасти ликвидирующий наклеп. Керамические стержни из окиси плутония показали себя достаточно стойкими. Поставлен даже своеобразный мировой рекорд полноты выжигания ядерного горючего, достигшей после двух с половиной лет работы пяти процентов. Была доказана в промышленных условиях возможность построения надежного и экономически выгодного реактора на быстрых нейтронах. Что это даст людям? Уже сейчас вокруг реактора, словно вокруг костра, прогоняющего мрак, собрались ученые самых разных интересов, проводящие ядерно-физические и материаловедческие исследования в потоках быстрых нейтронов небыва лой плотности. Но это — польза для науки. Что полезного даст реактор жизни? Реактор на быстрых нейтронах замечателен тем, что может работать с расширенным воспроизводством ядерного горючего. Это значит, что запас горючего в атомной топке в ходе ее «горенья» будет возрастать. Разъясним, в чем дело. Напомним, что каждый килограмм природного урана содержит только семь граммов изотопа урана-235, пригодного как ядерное горючее. Остальные девятьсот девяносто три грамма составляет недеятельный уран-238, уходящий в золу атомной топки. Чудо техники заключается в том, что уран-238, помещенный в рабочую зону быстрого реактора, под воздействием быстрых нейтронов алхимически превращается в ценнейшее ядерное топливо — плутоний. Происходит более драгоценная метаморфоза, чем та, которую искали древние алхимики. Там старались добиться превращения мертвой ртути в мертвое золото. Здесь же мертвое вещество превращается в источник животворной энергии. Если поместить в рабочую зону реактора уран-238, сделав из него, например, дополнительные стержни или отражатель нейтронов, можно добиться больших коэффициентов воспроизводства плутония, достигающих ста пятидесяти процентов. Популяризаторы сравнивают реактор с птицей Феникс, сжигающей себя и затем возрождающейся из пепла. Размышляя глубже, еще раз убеждаешься, что законы поэзии не всегда совпадают с законами физики. Поэтические образы далеко не точно изображают сущность дела. Реактор не во всем подобен сказочной птице. Все-таки сгоревшего не вернешь. Ни энергия, ни новые вещества в реакторе не рождаются из ничего. Просто происходят процессы, при которых «негорючие» в ядерном смысле элементы превращаются в горючие. Грубо сравнивая реактор с обычной печкой, можно сказать, что в дрова здесь превращается часть негорючих примесей и обмуровка самой топки. Огорчим еще раз неудачливых изобретателей «вечных двигателей»! Закон сохранения энергии не поколеблен, как не поколеблен и закон сохранения вещества. 3.9.Долговечные машины нужны, но нужны ли вечные машины? Можно не гадать — есть возможность проверить. Правда, вечных машин у нас нет и быть не может, но остались кое-где почтенного возраста машины, которым от роду сто лет и больше. В Малом театре в Москве была машина для подъема занавеса. Ей значительно больше ста лет, но она исправно работала, пока театр не попортила фашистская бомба. Но при всем уважении к заслугам машины режиссеры ею давно не пользовались. Дело в том, что машина упрямо держалась старинной пословицы «Поспешишь — людей насмешишь!» и тащила занавес добрую четверть минуты. Для теперешних темпов театрального действия это был бы форменный зарез. Актеры просто не знали бы, что им делать на сцене и как им себя держать, пока, не спеша, управляется с занавесом нерасторопный механизм. Потому режиссеры избегали работать со старым занавесом, а использовали новый, раздвижной. В городе Вязниках Ивановской области лет тридцать назад заглянула какая-то столичная комиссия в старый корпус фабрики, бывшей купца Елизарова. Заглянули в цех и обомлели, словно мамонта встретили. Перед ними стояла паровая машина типа Уатта — прапрабабушка паровых машин. Было машине верных сто лет, но она была готова к действию, словно еще сто лет собиралась проработать на своем посту. Конечно, машину тотчас отправили в музей. И не только как техническую диковинку. Машина занимала здание размером с провинциальную электростанцию, а была не мощнее автомобильного мотора. Теперь представьте, что все машины бессмертны. Что машины не изнашиваются, не разрушаются, не стареют и не умирают, как люди. И что все машины, какие только строили в этом мире, преспокойно продолжают жить на земле. Что бы тут творилось! Городские площади запрудили бы кареты, запряженные цугом, римские колесницы, первобытные сани-волокуши. Среди окриков возниц и хлопанья бичей верещали бы смердящие автомобильчики, похожие на экипажи, от которых сбежала лошадь, оскорбленно урчали бы новейшие лакированные автомобили. На железной дороге обтекаемый сверхтепловоз в нетерпении бил бы парами, ожидая, пока откроют светофор. Это занял перегон паровозик с длинной трубой, вылезающей из-под котла и изогнутой, как верблюжья шея. Он с достоинством тащит за собой состав, похожий на очередь из извозчичьих пролеток. И смех и горе! Но, наверное, люди не допустили бы такой кутерьмы, сами пошли бы с ломами наперевес и разбили бы старинные постылые машины, пустили бы их в переплавку. Постоянно, ненасытно жаждет техника обновления! Обновление! Я пишу это слово в канун Первомая, праздника весны, праздника дружбы людей труда. Веской обновляется природа, первый дождь смывает палые листья, распускается свежая, молодая листва. В первомайском праздничном обрамлении еще краше становится все, что вызвано к жизни дружбой тружеников, — мир заводов, машин, вещей, зданий — вся «вторая природа», создаваемая человеком, как однажды образно назвал этот мир К. Маркс. Эта «вторая природа» обновляется ежечасно: непрерывно цветет в цехах и лабораториях вечная весна труда. Тут работают обновители жизни — ученые, рационализаторы, передовики производства, изобретатели процессов и вещей. Бывает, колдуешь, склонясь над станком, над туманной, как струйка дыма, стружкой и не замечаешь, как из наших каждодневных усилий уже вырос горный пик нового, и под праздник, внезапно подняв глаза, изумляешься его сверкающей вершине. С каждым годом все круче поднимаются вершины технического прогресса, все больше труда сберегают машины обществу, все легче становится труд рабочих. Наш народ — творец великих изобретений. Наша русская земля была колыбелью радио, здесь впервые замигала электрическая лампочка и впервые взлетел самолет. Здесь впервые заставили богатырский атом служить делу мира и прогресса. Здесь впервые звездный корабль взлетел в космос. Имена и дела замечательных отечественных изобретателей служат знаменем технического прогресса и вселяют патриотическую гордость в наши сердца, укрепляют уверенность в грядущих победах. Но советский патриотизм кончается там, где гордость переходит в гордыню, где высокомерие становится шорами на глазах творца и мешает оценить соседний опыт. Консерваторами клеймят у нас тех, кто чурается, как якобы «чуждых» нам, зарубежных технических достижений, отвергает лучшее, сделанное другим, руководствуясь гиблым принципом: «Хоть паршивенькое, да свое». Нет, не так рассуждает и действует наш народ, советские патриоты! Полезно еще раз глянуть на весеннюю, обнажившуюся от снега землю, на зеленые ростки, на палые прошлогодние листья, не прибранные на этой земле. В той «второй природе», создаваемой человеком, в мире техники, в мире машин, окружающих нас, среди мощной поросли нового есть немало и старого, отмирающего, задержавшегося с давних времен. Далеко не все оно выглядит так плачевно, как прошлогодняя листва. Оно часто щегольски сверкает никелем и надменно блестит зеркальным лаком, покрывающим молодой металл. Но подлинная старость машины не в том, что проржавела сталь, облезла краска, разболтались сочленения, а в том, что состарилась ее идея, ее конструкция, состарилась и утратила жизненный смысл. Как говорят, машина морально устарела, износилась морально. Мысль, заложенная в ней, закостенела. Омертвело, застыло самое подвижное на свете — живая человеческая мысль. Тот конструктор, что создает эту машину, пусть с тревогой заглянет в самого себя, нет ли там самоуспокоенности, равнодушия, консерватизма — этих палых листьев души? Не пора ли их вымести оттуда, как сметают зимний сор с весенней улицы, по которой должна пройти первомайская колонна? Техника не может застыть на месте, старое заменяется в ней новым, новое — новейшим, она так же движется вперед и выше, как летящая мысль, в непрерывном процессе обновления. Пожелаем достижения новых вершин ученым, изобретателям, передовикам производства, идущим в первых рядах первомайских колонн, в первых рядах строителей коммунизма. Пусть весенний свежий ветер новизны раздувает наши знамена — эти алые паруса человеческого счастья! Пусть гремит веселее праздник молодости — молодости листвы, машин и сердец! 3.10.Простодушие и доверчивость — не лучшее качество экспертов по изобретениям, и поэтому люди эти могут показаться придирами. А иначе нельзя. Ведь история знает лжеизобретателей, похвалявшихся осуществлением неосуществимых технических выдумок. Когда-то немецкий ученый Орфиреус морочил голову русскому послу, предлагая продать Петру I вечный двигатель. Это было большое колесо на двух стойках, которое вращалось само, без посторонней силы. В те времена в невозможности построения вечного двигателя не были убеждены окончательно, и поэтому колесо подвергли испытаниям. Машину запустили в пустой комнате, и дверь в нее наглухо запечатали. Через двое суток, когда сняли печи, колесо вертелось, как ни в чем ни бывало. Орфиреуса погубила жадность: он уж слишком упорно торговался и жалел платить жалованье своей служанке. В ней же заключался весь секрет. Эта самая служанка и крутила колесо из соседней комнаты за шнурки, продетые сквозь стойки и протянутые под полом. Она и выдала проходимца Орфиреуса. Заграничный изобретатель барон де-Шевремон предлагал в 1741 году Анне Иоанновне уступить секрет на некий порошок, исцеляющий от всех болезней и к тому же, между прочим, могущий «превращать свинец в золото». Объявив, что владеет секретом делать золото, дипломатичный барон постеснялся пойти против логики и потребовать золото за своей секрет. Он просил Анну рассчитаться за изобретение чинами и орденами. Он желал: во-первых, производства в графы; во-вторых, награждения орденом св. Андрея; в-третьих, чтобы брат его был произведен в графы; в-четвертых, чтобы брат его был награжден орденом св. Андрея; в-пятых, чтобы ему был выдан паспорт, в котором он значился бы действительным камергером и действительным статским советником, и т. п. На это русское правительство не согласилось. И потомки не очень осуждают правительство за такое невнимание к изобретательским предложениям. Но как много, однако, присасывалось к России всяких этих вымогателей — шевремонов! Рассказывают, что в двадцатые годы один изобретатель носился с особым секретным сверхмощным порохом. Заряд размером с гомеопатическую крупинку был способен вызвать огромные разрушения. Изобретатель показывал опыт. Под стальную болванку, лежащую на столе, подкладывал свою пилюльку и производил взрыв. Болванка подпрыгивала к потолку и в туче штукатурки валилась обратно, разбивая стол в щепки. Кто-то разгадал обман. Над потолком у изобретателя стоял большой электромагнит от подъемного крана. Он притягивал болванку и отпускал ее, а крупинка, оказывается, была ни при чем. Все это рассказано в одной из хороших научных книжек по магнетизму. Не изгладилась еще в памяти недавняя слава Гринделла Метьюза, «изобретшего» в 1924 году аппарат «лучей смерти». Весной 1924 года в одном из бесчисленных кабинетов генерального штаба одного из иностранных государств молодой капитан разбирал утреннюю почту. Капитан ведал приемкой военных изобретений. Он вскрывал толстые конверты, бегло просматривал содержимое, раскладывал в папки описания и чертежи. Заключения по изобретениям дадут специалисты-эксперты, но капитан, не первый год сидевший на этой работе, заранее предсказывал результаты. — Опять «лучи смерти»! — объявлял он вслух своему соседу по комнате. — Предлагается применить ультразвуки… Снова «смертоносные лучи»: предлагается применить ультракороткие радиоволны. Все—ерунда!.. Один профессор действительно ухитрился оглушить ультразвуками золотых рыбок в своем аквариуме, а другой уморил тараканов в пробирке с помощью ультракоротких радиоволн. На войне ни то, ни другое не применимо, если, конечно, не придется воевать с тараканами. Чтобы убить на расстоянии таракана, пришлось затратить уйму энергии. Стрельба из пушек по воробьям была бы более рациональным занятием! А чтобы убить на расстоянии человека, нужны такие мощности, о которых мы и мечтать не в состоянии… Гора проектов росла. В этот день «лучи смерти» доняли капитана. Изобретателей смертоносных лучей объявилось раза в два больше, чем обычно. Капитан хорошо представлял себе этих изобретателей. В большинстве своем это были честные люди, искренне пытавшиеся принести пользу армии, но не разобравшиеся как следует в предмете. Но встречались и мошенники, стремившиеся сорвать с военного министерства сумму покрупнее на «реализацию» заманчивого проекта. Меньшинство представляли сумасшедшие. Этих можно было сразу узнать по напыщенным, иногда стихотворным описаниям, бессвязным чертежам и фантастическому почерку. Капитан заскучал и отодвинул бумаги. Оставался последний маленький конверт. Письмецо заставило его привскочить от изумления. В пятый раз, протирая глаза, капитан перечитывал белый листок. Он был написан ясным и четким почерком. Изобретатель не требовал ни денег, ни орденов. Он просил лишь одного — приехать и посмотреть изобретенный им аппарат смертоносных лучей. Безвестное имя Гринделла Метьюза скромно стояло в конце. С письмом в руках, позабыв об уставе, капитан, не стучась, ворвался в кабинет своего начальника. Полковник был явно заинтересован. Солнечным утром 7 апреля 1924 года поезд уносил их в маленький приморский городок, где жил и работал необычный изобретатель. Изобретатель встретил гостей у порога. Несколько человек с карандашами и блокнотами в руках поджидали офицеров. Это были корреспонденты крупнейших газет страны. Лаборатория Метьюза поражала своим оборудованием. Мощные электромагниты уживались рядом с насосами, ретортами и змеевиками; толстые электрические кабели извивались по полу, как исполинские удавы; гирлянды изоляторов свисали с потолка, точно связки огромных грибов. В клетке в углу пищали белые крысы. У стены на массивной треноге стоял таинственный прожектор, полузакрытый черным глухим покрывалом. — Не будем тратить времени на разговоры, — сказал изобретатель. — Приступим сразу к опытам. Маленький мотоциклетный мотор бешено затрясся в углу. Изобретатель, приподняв покрывало, взялся за прожектор. Узкий голубой луч пересек лабораторию. Изобретатель подвел его к мотору. Мотор кашлянул и заглох. — Наши лучи, — сказал изобретатель, — останавливают на расстоянии моторы танков и самолетов. Демонстрация продолжалась. На высокий табурет положили чугунную доску. Сверху насыпали горку пороха. Снова голубой луч скользнул по лаборатории. Порох с грохотом взорвался. — А теперь, — сказал изобретатель, отодвигая в сторону оробевших корреспондентов, — познакомимся с действием лучей на живые организмы. Белую крысу привязали за лапку к табурету. Она испуганно заметалась на привязи. Беспощадный голубой луч настиг зверька. Крыса дернулась и замерла. Луч убил ее. Эффект был чрезвычайный. Корреспонденты обалдело строчили в блокнотах. Потрясенный капитан подошел к полковнику: — Мы стоим накануне революции в военной технике… Нельзя допустить, чтобы сообщения о лучах проникли в печать… Разрешите дать указания цензуре? — Я сам обо всем позабочусь, — сухо ответил полковник. Капитан плохо спал ночь. Мысль о смертоносных лучах не давала сомкнуть глаза. Утром все казалось фантастическим сном. Свежие газеты ужаснули капитана. Огромные заголовки извещали мир о «лучах Метьюза», крупнейшем изобретении нашей эпохи. Это был беспримерный факт разглашения военной тайны. Перепуганный капитан позвонил полковнику. Тот отвечал сдержанно:- — Да, недосмотр досадный… Но сейчас меры приняты… С изобретателем ведутся переговоры. Так началась всемирная слава Гринделла Метьюза. Непроницаемое лицо таинственного изобретателя глядело со страниц десятков газет и журналов. Шли слухи о том, что недавно Метьюз в присутствии высшего командования взорвал на расстоянии плавучую мину. О «лучах Метьюза»-было написано несколько толстых романов. — Наш полковник достоин виселицы, — возмущенно шептал капитан своему соседу по комнате. — Надо быть попугаем, чтобы так проболтаться. Мало-помалу наступило затишье. Ежедневно, докладывая утреннюю почту, капитан ожидал, что полковник заговорит о лучах. Но полковник молчал. Наконец, капитан не утерпел и спросил первый. — Переговоры с Метьюзом ведем, — зевнул полкозник, — но пока не сходимся в цене. Слишком дорого просит Метьюз за свой прожектор. Капитан продолжал жаловаться своему соседу по комнате: — Рутинеры и крохоборы типа нашего полковника способны загубить любое живое дело! Подумать только: до сих пор не суметь договориться с Метьюзом!.. А в это время академик Поль Ланжевен, один из крупнейших физиков современности, давал гневное интервью корреспонденту газеты «Эвр». — Что касается Метьюза, то этот субъект никогда не был никем иным, как рецидивистом — мошенником. При демонстрации действий своего изобретения на подводную мину ему удалось взорвать ее, направив на нее луч. Лишь впоследствии обнаружили, что Метьюз на демонстрации обманул комиссию, так как до испытания он пристроил к мине фотоэлемент, на который направлял луч света, вследствие чего включился взрывающий механизм мины. Ловко придумано, но в этом нет ничего оригинального. — Ну, конечно, фотоэлемент! — хлопнул себя по лбу капитан, припоминая подробности поразительных опытов. — Это хитро спрятанный фотоэлемент— электрический глаз — включил смертельный ток в проволочку, к которой была привязана белая крыса! Схватив газету, капитан отправился к полковнику. Тот хладнокровно принял известие. — Наша разведка донесла нам уже кое-что по этому поводу. Я и раньше догадывался, что Метьюз фокусник, поэтому-то и не задержал газетных корреспонденций. Капитан волновался. — Надо немедленно дать официальное опровержение. Надо рассеять, этот обман. — Не надо! — махнул рукой полковник. — Ничего не понимаю! — возмутился капитан. Полковник сурово сдвинул брови: — Я мог бы и не давать вам отчета в своих действиях и должен бы строго взыскать с вас за горячность, но ваша молодость служит оправданием. Если бы даже и не оказалось мошенника Метьюза, что-нибудь подобное следовало проделать нам самим. Обман — это тоже оружие… Сообщение о лучах Метьюза воодушевит наши войска и, быть может, припугнет наших соседей. Может быть, найдутся где-нибудь дураки, которые и деньги начнут тратить на что-нибудь подобное. Это нам на руку. Вот и все, господин капитан. Вы свободны. Так закончилась история с лучами Метьюза. Обман — оружие наших врагов. Каждый раз, когда гитлеровцам во время войны приходилось туго, они пытались деморализовать наш народ всякими баснями о вновь изобретенном таинственном оружии, обладающем сокрушительным действием. Но нас не удавалось и не удастся запугать. Никакое действительно новое оружие не будет для нас неожиданностью. 3.11.Вот одна из моих заметок в газете «Известия», напечатанная в 1955 году. Еще Салтыков-Щедрин отмечал, что пуганый обыватель покладистее непуганого. Дрожащие руки некрепко держат кошелек, а покрытая мурашками спина послушней изгибается дугою. Эти в высшей степени благоприятные для каждого грабителя психологические особенности испуганного обывателя и стремится использовать американская империалистическая пропаганда, разжигая военный психоз. Одним из модных пугал американской пропаганды стала версия о таинственных «летающих тарелках». С 1947 года по сегодняшний день буржуазная печать и радио опубликовали ряд сообщений о «тарелках», «блюдцах», «цветных колесах», «плюшках», «сковородках», «огненных шарах», проносящихся в воздухе с фантастической скоростью. Зрительные наблюдения подкреплялись сообщениями о загадочных знаках, будто бы возникавших на радиолокационных экранах. Подчеркивалось особо, что странные летающие предметы появлялись по большей части над атомными и танковыми заводами. Намекалось, что эти таинственные изобретения направлялись «рукой Москвы». И хотя очевидцев появления «летающих тарелок» было много меньше, чем ясновидцев, обладающих способностью видеть воочию зеленых змиев, мелких чертиков и танцующие скелеты, все же, по свидетельству журнала «Лук», в Пентагоне была создана секретная комиссия под шифрованным названием «Проджект Блю Бук», занимающаяся изучением небесных привидений. На работу комиссии было израсходовано 34 ООО долларов. Эти деньги были потрачены не зря. Сообщения о «летающих тарелках» повалили со всех концов земного шара: из Бразилии и Турции, Норвегии и Эритреи, Японии и Монте-Карло, Португалии и Мексики. Корреспондент агентства Франс Пресс сообщил о появлении «летающих тарелок» над городом Иерихоном, получившим, как утверждают, во время оно серьезные разрушения от трубного гласа. Против ожидания, новая опасность, нависшая над многострадальным городом, не взволновала общественного мнения. Охотники за «летающими тарелками» перестарались. Нарастающая лавина сверхъестественных, противоречащих друг другу фактов производила обратный, шутовской эффект. Грозное пугало превращалось в потешное чучело. Страшная версия о «руке Москвы» становилась анекдотом. Американская пропаганда забила отбой. Офицеру американской разведки полковнику Уотсону пришлось объявить, что неясные контуры таинственного аппарата, запечатленные в сенсационном кинофильме, представляют собой фотографии отраженной в пруду водонапорной башни. Тщетно профессор астрофизики Мензелл объяснял, что «летающие тарелки» — это мираж и электрические разряды в атмосфере. Он разъяснил, что странные фигуры на экранах радиолокаторов являются обычными радиопомехами, столь знакомыми любителям телевизионных передач. Механизм возникновения «летающих тарелок» он пытался раскрыть на домашних опытах в тазу с водой и даже в чашке кофе. Рассуждения профессора астрофизики не устраивали офицеров Пентагона. Не устраивали их и бури в тазу с водой, и эксперименты на кофейной гуще. Ведь с позиции профессора вся их прежняя деятельность представлялась в обидном свете и отдавала духом Форрестола. В Пентагоне решили попросту прихлопнуть всю эту историю, потерявшую отныне политический смысл. Всю вину свалили на наблюдателей, отнеся появление «летающих тарелок» за счет «массовой истерии, нервных заболеваний, мистификации, гипноза, головокружения, сенсационных трюков и особенностей восприятия психически ненормальных людей».  Но недавно работа упомянутой выше комиссии по материализации привидений возродилась на новой основе. Застучали машинистки, заполняющие бланки карточек. Выразителем новых веяний оказался майор в отставке Дональд Кихоу. В американском журнале «Лук» появились отрывки из книги Кихоу, носящей интригующее название «Летающие тарелки из мировых глубин». По мнению Дональда Кихоу, «летающие тарелки» — это межпланетные машины, пилотируемые жителями других планет. Он считает, что «летающие тарелки» — это островки, удерживаемые над землей отталкивающей силой магнита!.. Тем не менее Дональду Кихоу охотно выписывают пропуск в Пентагон. Простодушные записки отставного майора любопытны в том отношении, что показывают, как офицеры Пентагона дразнят Кихоу, разжигая его навязчивую идею. Офицер Пентагона Чоп подзуживает Кихоу, заверяя устно, что министерство авиации полностью поддерживает его самобытные идеи. А затем министерство авиации официально сообщает в редакцию, что это заключение является частным мнением Чопа. И Кихоу мечется между Пентагоном и редакциями газет, накаляясь все сильнее и сильнее. Его сбивчивые, нервные высказывания начинают наматывать на ус чуткие к конъюнктуре американские бизнесмены. Журнал «Ньюсуик» напечатал фотоснимок ресторана во Флориде с расторопной надписью на крыше: «Добро пожаловать, пассажиры летающих тарелок!» Но майор Кихоу слишком хорошо знает американскую действительность, чтобы верить всерьез доброжелательным лозунгам. Он считает особо необходимым предупредить, что, «независимо от их внешнего вида, мы должны проявлять к каким бы то ни было пришельцам из мирового пространства не менее дружественные отношения, чем они к нам». Кихоу справедливо опасается, что завсегдатаи гостеприимного ресторана могут для порядка «подправить» челюсть выходцам с Марса. Отставной майор справедливо учитывает при этом и неуживчивый характер государственного департамента, и печальную практику американской внешней политики последних лет. Предвидя возможность очередных, в данном случае межпланетных, конфликтов, он пишет: «Мы должны не допускать насилия со стороны нашего народа, с тем чтобы не совершить трагической ошибки, которая превратит мирных пришельцев в смертельных врагов». Так резвится и кувыркается майор Кихоу на страницах журнала «Лук» под сочувственным взглядом Пентагона. Миллионеры, перегоняющие военную историю в звонкий чистоган, выжидают, когда дрогнет рука у обывателя и он уронит лишний цент под залог войны с Марсом! Между тем объективный клинический анализ сочинений отставного майора Кихоу заставляет вспомнить опубликованные Гоголем записки титулярного советника Аксентия Иванова Поприщина. На страницах упомянутых записок, помеченных «февруарием тридцатым», Аксентий Иванов также предупреждает человечество об опасности межпланетных конфликтов: «… я, надевши чулки и башмаки, поспешил в залу государственного совета с тем, чтоб дать приказ полиции не допустить земле сесть на луну». Титулярный советник надеялся, что при возгласе: «Господа, спасем луну…», многие полезут на стену, чтобы выполнить его «монаршее желание»… Но надежды его не оправдались, как не оправдаются надежды Дональда Кихоу. Никто не вздрогнул, никто не полез на стену вслед за полоумным майором. В цитируемых выше записках титулярный советник Поприщин полагает, что делал луну «…хромой бочар, и видно, что дурак, никакого понятия не имеет о луне. Он положил смоляной канат и часть деревянного масла; и оттого по всей земле вонь страшная, так что нужно затыкать нос». Возникает вопрос: не из тех ли дурно пахнущих материалов и не теми ли бездарными руками фабрикуются «летающие тарелки» — скудоумное пугало американской пропаганды?» 3.12.Изобретатель нередко вступает в спор с экспертом, оценивающим полезность изобретения. Очень плохо, если эксперт окажется крючкотвором и казуистом. Самый древний портрет эксперта-крючкотвора сохранился в свитках «Федры» античного философа Платона. Здесь Платон заставляет Сократа рассказать следующее: «Мне рассказывали, что в Египте близ Наукратиса был бог, один из древнейших в стране, тот, кому посвящена птица, именуемая египетским Ибисом. Бог назывался Февс. Он первый изобрел числа, счет, геометрию, астрономию, а также игру в камешки и кости и, наконец, письмо. Царь Фамус царствовал тогда во всей стране и жил в большом городе Верхнего Египта, который эллины называют египетскими Фивами, именуя царя богом Аммоном, Февс посетил царя, показал ему изобретенные искусства и советовал распространить их между египтянами. Царь спросил, какая польза от каждого из этих искусств. Февс в подробностях изъяснил их употребление. Дошли до письма. — О, царь, — воскликнул Февс, — это изобретение сделает египтян ученее и облегчит их память: я нашел средство против трудностей изучения и запоминания. — Проницательный Февс, — отвечал царь, — гений, изобретающий искусство, есть иное, чем мудрость, оценивающая выгоды и невыгоды, проистекающие из их применения. Как отец письма, прельщенный своим изобретением, ты приписываешь ему последствия прямо противные действительным. Оно породит забвение в умах, которые с ним познакомятся, побудив их пренебрегать памятью. Полагаясь на стороннюю помощь, они предоставят материальным знакам заботу о том, чтобы возобновлять воспоминания, след которых потерян умом. Ты изобрел не средство разрабатывать память, но средство будить воспоминания. Ты даешь твоим ученикам тень науки, а не саму науку. Когда они узнают много вещей без учителя, будут мнить себя очень учеными, оставаясь в большинстве невеждами и ложными мудрецами, нестерпимыми в жизни». Этим витиеватым отзывом бог Фамус, очевидный покровитель всех экспертов-крючкотворов, пытался похоронить величайшее изобретение — письменность, величайшую драгоценность — грамотность. Не от имени ли Фамуса произвел Грибоедов фамилию своего Фамусова — воплотителя всего консервативного, косного? Изобретателям противостоят консерваторы, люди, не умеющие мечтать. Консерваторы потому и называются консерваторами, что их не берет время. Они твердо придерживаются двух аксиом, не изменяющихся веками. Назовем их условно аксиомами «конского копыта» и «кремневого топора». Аксиома номер один состоит в утверждении того, что колесо никогда не заменит конского копыта. Аксиома номер два состоит в утверждении того, что кремневый топор предпочтительней бронзового потому, что дешевле и проще и не требует создания металлургической базы. Остроумно написал о консерваторах поэт Николай Глазков: Всем смелым начинаньям человека В 1934 году английские правительственные чиновники так ответили основателю Английского межпланетного общества: «Научные исследования возможностей реактивных двигателей не приводят к выводам, что они могут стать серьезными конкурентами винтомоторной силовой установке». Колесо никогда не сможет стать конкурентом конскому копыту! Так не в каменном веке, а в нашем двадцатом столетии консерваторы встречали великое изобретение. Впрочем, стоит ли подробно рассказывать о тупицах, людях отсталых и равнодушных, не умевших понять, не желавших принять, затиравших, душивших изобретения? Бюрократы — что о них говорить! В конце прошлого века немец Макс Кеммерих выпустил двухтомную книгу «Курьезы из истории науки, техники и культуры». Он собрал в ней коллекцию человеческой косности. На страничках, как бы под стеклом, булавочками были приколоты на посмешище грядущим поколениям близорукие тугодумы: астрономы, не верившие в метеориты, географы, сомневающиеся в сплющенности земного шара, профессора, уверявшие в невозможности построить автомобиль, музыканты, ругавшие симфонии Бетховена, критики, усомнившиеся в бессмертии Гёте. Есть тут свои рекорды… Выражение «Волга впадает в Каспийское море» служит нынче символом чего-то давно известного, само собой разумеющегося. Но известный географ XVI века Франческо де Колло пытался опровергнуть это: «Волга не может впадать в Каспийское море, так как в этом случае она была бы пересечена Доном и неизбежно слилась бы с ним. В Каспийское море не впадает никаких рек». Да, случалось, передовые разумные люди попадали в положение косных людей. Астроном Тивелий в 1673 году писал: «Хотя зрительные трубы изобретены и усовершенствованы, но немало есть неверующих, утверждающих, что нельзя доверять этим трубам, ибо они, порождая иллюзии, обманывают». Сам Ньютон, гениальный оптик Ньютон, клялся, что никогда и никому не удастся устранить пеструю радужную каемку вокруг оптического изображения, создаваемую хроматической аберрацией. Но петербургский академик Эйлер изобрел способ ее устранить. А сейчас не существует вовсе биноклей и фотографических объективов, грешащих хроматической аберрацией. Прославленный физик Деви умел понимать и ценить новое. Он сам сделал несколько удивительных открытий. И даже рисковал при этом жизнью. Но этот же Деви с усмешкой спрашивал одного из изобретателей газового освещения Мердоха, уж не хочет ли он в качестве резервуара для своего газа приспособить купол собора святого Павла? Ста лет не прошло с тех пор, а уж были построены газовые резервуары намного большие, чем весь собор целиком. Петербургский котлостроитель профессор Г. Ф. Дьепп, двинувший вперед технику паровых котлов, изобретший такую великолепную штуку, как сжигание в топке пылевидного топлива, с недоверием поглядывал на новорожденную паровую турбину Лаваля. Он писал, что у этой турбины слишком «большой расход пара. Поэтому паровые турбины вытеснить других паровых машин не могут, а являются необходимыми только в некоторых частных случаях, когда по местным условиям их действительные, хотя и второстепенные качества являются существенными». Профессор оглядывал горизонт будущего, взобравшись на невысокую спину паровых котлов своего времени, и считал, что грядущая техника все время будет подлаживаться под возможности его паровых котлов. Но маленькая турбинка вызвала полный переворот в котлостроении, заставила котлы безмерно расширить объем и мощь своих легких, породила конструкции высотой в пятиэтажный дом, в которых бочки воды испаряются с такой же стремительной быстротой, как капля на шипящей сковородке. Казалось бы, бесспорная вещь пулемет, но прочтите, какой отзыв о пулемете дал в начале прошлого столетия известный русский генерал Драгомиров: «Если бы одного и того же человека нужно было убивать по нескольку раз, то это было бы чудесное оружие, так как при 600 выстрелах в минуту их приходится по 10 в секунду. На беду для поклонников столь быстрого выпускания пуль, человека довольно подстрелить один раз и расстреливать его затем вдогонку, пока он будет падать, надобности, сколько мне известно, нет. Правда, есть рассеивающие пули приспособления, но, опять-таки на беду, не народились еще такие музыканты, которые были бы в состоянии переменить направление стволов 10 раз в секунду. Да если бы и народились, то они могли бы только пускать пули наудачу. Правда, в толпу годится, но какой дурак теперь подставит толпу?! «Но могут быть случаи». Но и картечницы могут оказаться не там, где будут эти случаи. А разгорячение ствола… «Да, но охлаждение». Оно конечно, охлаждение; но, на беду, колодца с собой возить нельзя, а иногда бывает, что и сам рад бы напиться, да воды нет. Всякая скорострелка, называть ли ее картечницей или вновь придуманным красивым словом — пулемет (и избави нас от лукавого и метафоры), все же есть не более, как автоматический стрелок, то есть самостоятельного вида поражения не дает; и если дать на выбор человеку, не одержимому предубеждениями, застилающими здравый смысл, то, конечно, он предпочтет живого стрелка автоматическому, уж хотя бы за одно, что у него лафета нет, лошадей ему не нужно, и можно его употребить на всякую солдатскую работу». Удивительно! Передовой генерал. Выдающийся военный мыслитель, чьи высказывания до сих пор сохранили свою ценность, а вот не понял, не оценил значения пулемета! Каменный топор предпочел бронзовому! А порой и сам изобретатель не может оценить важности своей работы. Так было с Эдисоном, решительно отрицавшим, что с помощью его телефона когда-нибудь можно будет говорить через Атлантический океан. Так было с физиком Герцем, открывшим радиоволны. Он никак не хотел согласиться, что его открытие найдет применение в технике связи. — И не спорьте, — отмахивался Герц, — я сам открыл эти волны. Мне лучше знать. Это продолжалось до тех пор, пока А. С. Попов, не споря с Герцем, построил первую радиостанцию. Выходит, не только тупицы и рутинеры, но и передовые, умные люди попадали впросак: не всегда умели заметить пользу в том, чему принадлежит будущее, в том, чему суждено осуществиться и победить, если даже выглядит оно сегодня бесполезным и несбыточным. Не так-то просто понять изобретение, дать ему верную оценку. Генерал Драгомиров выполнял свой долг. Ему по должности было положено давать отзывы на военные изобретения. А известного итальянского поэта XVI века Ариосто никто об этом не просил. И все-таки в поэме «Неистовый Роланд» Ариосто не может удержаться, чтобы не проехаться по адресу тогдашней военной новинки — огнестрельного оружия. Созданье адское. С тех пор, Что заставило Ариосто пойти на специальное поэтическое отступление, чтобы всей силой звучных стихов обрушиться на новое изобретение? Только ли неуменье глядеть вперед и чувствовать новое? Нет, за этим кроется нечто большее. Повод, видно, гораздо важней. Английские ткачи зачастую были неграмотными и заключений по изобретениям не писали вовсе. Но когда изобретатель ткацкого станка Картрайт начал строить первую крупную фабрику, ткачи собрались вместе, наняли писаря и послали изобретателю письмо. «Мы поклялись поддерживать друг друга, чтобы разрушить вашу фабрику, хотя бы нам пришлось поплатиться за это своей жизнью, мы поклялись снять вашу голову за то зло, которое вы причиняете нашему ремеслу. Если вы будете дальше продолжать свое дело, то вам известно теперь, что вас ожидает». И ткачи исполнили свою угрозу. Они сожгли фабрику и поломали все станки. Что заставляло толпы ткачей бесноваться, вдребезги кроша ненавистные машины? Только ли неуменье глядеть вперед и чувствовать новое? Видно, что-то большое и неумолимое, что сильнее смерти, взяло ткачей за горло, превратило их в косных людей. Изобретения — дело нешуточное. Они властно врываются в жизнь, придавая могущество одним, других уничтожая. И кто знает, как отзовется в веках незаметное сегодня изобретение? Когда арабы научились гнать спирт, им и в голову не приходило, что они этим создали одно из главных орудий, которое истребит, заставит спиться местных жителей еще даже не открытой Америки. Когда порох проник от арабов в Европу, он устроил переворот не только в военном деле. Он подорвал весь тогдашний общественный строй. Порох, ружья и пистолеты были на стороне того, кто владел промышленностью и деньгами, а ими владели горожане. Огнестрельное оружие стало с самого начала оружием горожан. Каменные твердыни рыцарских замков пали перед пушками горожан, пули горожан пробили рыцарские латы. Вместе с рыцарской броней была разбита феодальная дворянская власть. Ариосто был поэт и дворянин. Он воспевал доблесть рыцарей, братьев своих по классу, и набросился на порох не сослепу, а потому, что увидел в нем вражескую силу. Жизнь Ариосто, его творчество всеми корнями вросли в дворянство, и косным человеком он стал потому, что учуял в новом изобретении свою гибель. Гибель видели ткачи-кустари, когда крошили станки Картрайта, быстролетные механические руки, заменившие сотню людских рук. Безработица и смерть стояли перед ткачами. Они верили, что стоит только сломать машины, как снова вернется былая, милая сердцу жизнь. Они видели зло в машинах, а не в фабрикантах, угнетавших их с помощью этих машин. Так израненный лев, в пылу первой ярости, грызет железное копье. Ткачи, разрушавшие машины и фабрики, были темными людьми, им простительны самые глубокие заблуждения. Но все чаще и чаще в современном капиталистическом мире просвещеннейшие мыслители уподобляются темным ткачам, брызжа яростью против прогресса техники, против науки. Американцы построили город Нью-Йорк со стоэтажными небоскребами, подпирающими небо, и они же сконструировали ядерную бомбу. В своей книге «Атомное оружие и внешняя политика» американец Г. Киссингер попытался примерить на глаз американскую водородную бомбу к Нью-Йорку. Оказалось, что одна водородная бомба способна смахнуть нью-йоркские небоскребы, как фигуры с шахматной доски. Автор подробно разбирает страшные последствия этого воображаемого взрыва. Академик И. В. Курчатов с трибуны XXI съезда партии в основном подтвердил справедливость выводов Киссингера. Это очень авторитетное подтверждение: мы-то раньше американцев создали водородную бомбу! В смятении Киссингер готов оправдать бессердечную расправу древних богов, приковавших Прометея к кавказской скале: Прометей похитил с небес простой огонь, но ведь он мог похитить огонь ядерный! В оковы Прометея! В оковы человеческий разум! Киссингер обвиняет науку, технику, творческий разум и не видит, что виной всему капиталистический строй, при котором величайшие достижения науки и техники подчиняются целям уничтожения человека. Он стал косным консерватором потому, что не смог осудить безумие капиталистического строя. Мы живем в таком государстве, где любое полезное изобретение не грозит человеку бедой и уничтожением. Каждый новый шаг в технике облегчает нашу жизнь, отдаляет тяжелое прошлое. Всякая косность нам враждебна. И тупая косность от слепоты, и другая, злая косность, от зоркости. Оттого мы с такой тревогой всматриваемся в лицо бюрократа, затирающего новое изобретение. Не скрывается ли под тупой и равнодушной личиной ненавистный пронзительный взгляд ущемленного ревнителя прошлого, осознавшего свое поражение? 3.13.Два древних римских писателя— Петроний и Плиний Младший рассказывают одну и ту же легенду: изобретатель принес императору Тиберию кубок из неразбиваемого стекла.[5] Принес и ждет награды. А император повелел отрубить изобретателю голову и похоронить вместе с ним его кубок. Император боялся, что стекло окажется дороже золота его казны. И если дать изобретению ход, казна обесценится — цена золота упадет до цены песка. Вот как встретил в легенде изобретение богач и тиран. Сгинь, рассыпься даже самая гениальная идея, если она угрожает его деньгам, его власти над людьми. Такими тиранами, большими и поменьше, кишит и капиталистический мир. Пусть не тысячу лет назад, а недавно, быть может, вчера, является к императору новый изобретатель. Император сидит в кабинете, похожем на тронный зал. Он богаче любого римского императора, хотя лично ему и не подвластна ни одна страна. Это император Стеклянного мира, всемогущий король Графинов, царь Бутылок, великий князь Оконных Стекол и прочая, и прочая. Имя ему — директор стекольной компании. Изобретатель начинает издалека: — Я шел к вам и приглядывался к окнам бедняков. Стекла всюду были расколоты и сквозь щели дуло. За окном плакала девочка над осколками разбитого графина… — Ближе к делу, ближе к делу! — ласково подгоняет директор. Изобретатель извлекает из газетной обертки стеклянный стакан. — Вот стекло моего изобретения. Оно крепче стали. Изобретатель с размаху швыряет стакан в угол. Стакан цел. Директор поражен. Он выходит из-за стола, позабыв о своем величии. Они вновь по очереди швыряют стакан. Стакан цел. Они бьют по нему мраморным пресс-папье и раскалывают только мрамор. Они загоняют стаканом в стену гвоздь. Они топают, прыгают по стакану: изобретатель, надсаживаясь из последних сил, и директор, всею тушей. Опыты кончены. Сомнений нет. Наконец они снова садятся друг против друга — изобретатель, рдея от гордости, и директор, запыхавшись. Изобретатель лезет в карман, расправляет свои бумажки. — Вот состав моего стекла. А это мои патенты… Давайте заключим союз. Я отдам вам свое изобретение в полное владение, а вы внедрите его во все области жизни! Мы осчастливим человечество, и оно прославит нас в веках. Мы окружим людей вещами нержавеющими, небьющимися, неразрушаемыми — вечными вещами… Мы построим над реками хрустальные мосты… Здания, дворцы с прозрачными стенами и прозрачными потолками… Небо снова будет окружать людей со всех сторон. Директор слушает благосклонно. Он даже поддакивает изобретателю в особенно сильных местах, но глаза его бегают в беспокойстве. Директор прикидывает в уме: «Небьющиеся стекла… Неразбиваемые стаканы… вечные вещи… постой, постой, любезный. Да ведь я живу на том, что стекла бьются! И пока мы тут колотили твой дурацкий стакан, тысячи других стаканов в мире раскололись от удара, тысячи стекол треснули в окнах. Тысячи людей побежали в лавку искать новое стекло. А с каждого купленного стеклышка мне доход. Для того и все мои предприятия, чтоб днем и ночью восполнять эту постоянную убыль. Понимаешь ли, что ты предлагаешь мне, такой сякой?.. Загрузить мои печи небьющимся стеклом, наводнить магазины, жилища вечными вещами? Чтоб люди, купив, перестали покупать? Чтобы загасли мои заводы и потухли витрины, чтоб иссяк источник моих миллионов?.. Чтобы я в трубу вылетел из-за твоей затеи? Пропади они пропадом, твои хрустальные мосты, только бы по-прежнему бились мои стаканы!» Директор с опаской косится на стакан, словно это не стакан, а бомба. Страх и ненависть завихрились в его сердце. Будь он древним императором, он, не дрогнув, похоронил бы живым изобретателя с его стаканом. К сожалению, лично ему не подвластна ни одна страна. Похоронить он может только изобретение. Директор по-прежнему слушает благосклонно. Он готов купить патенты по сходной цене. Он готов даже поделиться с изобретателем долей будущей прибыли. Он не привык откладывать дела. Сделку заключают немедленно. Он еще раз успокаивает изобретателя, провожая его до дверей. Мосты? Будем строить мосты. Города? Города тоже. Изобретатель шагает домой, не чувствуя под собой ног. Деньги? Вот они! Слава? Крылья славы шумят за плечами. А директор прячет патенты в несгораемый шкаф. Замыкает на все ключи тяжелые двери. И тогда только вздыхает спокойно: — Спите, спите, бумажки, в стальном гробу. Я теперь ваш хозяин. И пускай теперь изобретатель ждет не дождется первой опытной варки. И пускай он толчется всюду со своей неотвязной мечтой о прозрачных жилищах и о небе, окружающем людей со всех сторон. Каждый день проволочки, отписки, отказы. Что вам нужно, наконец? Вы получили деньги. Остальное наше дело. Спит изобретение в стальном гробу. И сколько так похоронено изобретений! Нам это кажется диким, нелепым, безумным. Но вот не легенда, не притча, не фантазия сатирика, а отрывок из выступления американского сенатора Макмагона. «Предположим, что кто-нибудь объявит об изобретении локомотива с атомным двигателем, который за время пробега между Нью-Йорком и Вашингтоном поглощал бы всего лишь на несколько долларов атомной энергии. В результате акции всех железнодорожных и угольных компаний обесценились бы. Страховые компании, связанные с капиталовложениями железных дорог, обанкротились бы, и все это привело бы к общему финансовому хаосу». Сенатор Макмагон жестикулирует на трибуне, то расставив руки, как шлагбаум на путях мирного атома, то сложив их в предупредительный жест, открывающий «зеленую улицу» атомной бомбе. Он, сказавший «да» атомной бомбе, говорит «нет» мирному атому. Он спокойно допускает сожжение сотен тысяч людей, но не может допустить снижения акций железнодорожных и угольных компаний. Он бестрепетно глядел на огненный хаос Хиросимы и Нагасаки, но страшится финансового хаоса в сейфах Уолл-стрита. Пусть полсвета расколется, как стеклянный стакан, и сенатор будет счастлив, потому что в убыли — его прибыль. Так считают и действуют богачи и властители всех времен — Тиберии и Макмагоны — императоры и империалисты. 3.14.Бывает, что свежий, незастоявшийся человек получает клеймо консерватора, гуляет с этим клеймом и отмыть его не в состоянии. Тут возможны разнообразные житейские ситуации. Вот одна из них, позаимствованная из центральных газет. Изобретатель предлагает усовершенствование — изменение конструкции перекидного календаря. У всех календарей дата напечатана на правой страничке, а левая страница оставлена чистой для заметок на память. Изобретателю это кажется несовершенным. Он считает, что при таком расположении даты неудобно делать заметки. И поэтому вносится предложение печатать дату на левой страничке разворота, а правую страничку оставить чистенькой, чтоб ловчее делать записи. У изобретателя сильное моральное преимущество, как у всех изобретателей в нашей стране. Он выдумал новое, несет его в жизнь и заранее рассчитывает на всяческое внимание. У директора фабрики календарей позиция более щекотливая: он обязан чутко отнестись ко всякому полезному новшеству, но, конечно, объективно разобравшись в деле. И набраться мужества решительно отклонить предложение, если оно не приносит пользы. Он рискует дважды, если ошибется в оценке — может нанести ущерб предприятию, увлекшись какой-нибудь ерундой, или схлопотать клеймо консерватора, не почуяв ценного, нового. Изобретатель нажимает. Директор мнется… Директора прорабатывают на собраниях, протягивают в печати. Главное, внедрение-то этого предложения легче легкого и не требует никаких расходов. Подписал распоряжение, и начнут печатать даты на левой страничке. И все-таки директор мнется. Тут мерцают как бы две стороны медали.. С одной стороны, людей с детства в школе учат начинать писать на левой странице развернутой тетради, а не с правой, так что людям будет неохота расставаться с привычкой. С другой стороны, перекидной календарик— не тетрадка: посредине торчат две дужки и, возможно, действительно мешают некоторым делать заметки на левой странице. Но как быть с вековой традицией печатных изданий, когда текст, напечатанный на одной странице листа, непременно появляется на правой странице. С одной стороны… С другой стороны… Орел почти неотличим от решки. А изобретатель продолжает нажимать. Он готов созвать новгородское вече, чтобы обсудить свое предложение, воображая, что откроется убийственная дискуссия и что спорщики, передравшись, разобьются на партии, как в свифтовской Лилипутии, где смертельно враждовали между собой сторонники разбивания яиц с тупого конца и приверженцы разбивания яиц с конца острого. Но Лилипутия существует только в книжках. И у нас не разгораются лилипутские конфликты. В лучшем случае собравшиеся, прослушав пять минут, постараются бочком выбраться из зала: аллах с вами! Как хотите, так и печатайте. Директор знает, что одним лишь росчерком пера он может внедрить предложение и стереть с себя клеймо консерватора. И не спешит браться за перо. Перед ним не изобретение, а каприз. Где гарантия, что завтра не объявится другой привередник, не потребует вернуть дату на прежнее место. Как все чаще случается у нас, новатор победил. У некоторых календарей дата перебралась на левую страницу. Но консерватор ли директор? Нет, конечно! Так клеймят того, кто затирает изобретения. Ну, а если изобретения нет, можно ли винить человека в консерватизме? 3.15.Но вот есть оно, бесспорное, большое изобретение! Изобретатель предлагает заменить колесо шаром. Предложение неожиданное, дерзкое, ослепительное. Можно целый вагон — да что там! — целый поезд пустить по желобу на двух вращающихся шарах. Шары выдержат, ведь они соприкасаются с желобом не точкой, как колесо, а вытянутой полоской. Значит, и давление на желоб не выйдет из допустимых пределов. Получится на редкость устойчивый быстрый безопасный поезд. Машинисты с осторожностью ведут обычный железнодорожный состав, ведь колеса удерживаются на рельсах лишь жалким венчиком реборд. Шаропоезду в желобе спокойно, как в люльке. Серебристая цепь вагонов проструится, просвищет в желобе, как столбик ртути. Повышение скорости не опасно, шар не выскочит из желоба даже на крутых поворотах. Предложение пахнет революцией на транспорте. Схема быстро облекается в реальную плоть. Мощные электродвигатели умещаются во внутренней полости шаров. Уже видится железобетонный желоб, обнимающий цилиндрический вагон. Быстролетная модель в одну пятую натуральной величины проходит испытания на опытной трассе. Но на пути изобретения появляется консерватор. Не уснулый бюрократ водружает очки-велосипед на грубой переносице, молодой приветливый большелобый эксперт крутит арифмометр. Он глубоко восхищен дарованием изобретателя и любуется втайне красотой его технического решения. Но у них, у двоих — есть различие. Изобретатель все силы ума, все усилия воображения сосредоточил на одном своем изобретении, свел их в точку, в ярчайшее пятнышко, как хрустальная чечевица солнечный луч. Эксперт же видит шире, перед взором его вся железнодорожная сеть страны. Арифмометр серьезно, как кузнечик, поет свою трескучую песенку. Он подсчитывает потери. Грандиозные, ошеломительные потери как бы в результате всеобщей катастрофы, охватившей весь простор железнодорожной державы. Сбиты все костыли, разобраны все рельсы, растащены все шпалы. Вырастают хеопсовы пирамиды земляных работ. Экскаваторы надсадно трудятся, уширяя насыпи и выемки, взорваны, изрезаны автогеном мосты, на их месте воздвигаются новые, более мощные устои. И по всем этим разрушениям пролагаются железобетонные желоба шаропоездов будущего. Арифмометр поет и поет свою песенку. Это грустная песенка. Под такие песни хоронят изобретения. Подведена черта. Расчет закончен. Перед экспертом две цифры. Одна — огромная, с такой гирляндой нулей, что ее с трудом охватывает воображение. Это сумма всех затрат на реализацию изобретения. Другая цифра маленькая. Но обнять ее воображением еще труднее. Эта цифра дороже денег, дороже всех затрат. Это — время. Тут указан наикратчайший срок внедрения изобретения в жизнь, повсеместной замены рельсов желобами, а колес шарами. Если не ошибся арифмометр, на внедрение изобретения уйдет столетие. Эксперт напрягает воображение, чтобы умственным взором увидеть, как будет выглядеть транспорт через сто лет. Он глядит через окно в небо, где оставил росчерк реактивный самолет. Он вспоминает очертания кругосветного космического корабля «Восток». В голове возникает картинка из научно-фантастического романа. Небо похоже на оживленную площадь, где толкутся, как рой мошкары, летательные аппараты стреловидной формы. Только ли стреловидной? Эксперт стремится преодолеть шаблон и косность воображения. Ему кажется теперь, что стреловидная форма — это нищенский наряд энергетики и материаловедения. Только в век слабых тепловых двигателей и хрупких материалов самолету приходилось упрощать свои формы, для того чтобы униженно протискиваться через атмосферу, превращаться в подобие иголки, прошивающей кожаную подошву. Фантазер почти углядел, как плавно и быстро проносится в небе нечто щедро и свободно скроенное, изукрашенное веселыми финтифлюшками, нарядное, как театр. А сопротивление воздуха? Стоит ли считаться! Ведь имеются атомные двигатели неисчерпаемой мощи. А сопротивление материалов? Выдержат! Ведь имеются материалы в сто раз прочнее прежних… Эксперт чувствует, что увлекся… Он сейчас понимает, как никогда, что почти невозможно вообразить, куда завернет транспортная техника через сто лет. Он уверился, однако, что шары и желоба будут выглядеть в ту эпоху устарелыми. Правда, шаропоезд — быстрее обычного поезда. Но ведь это наземные скорости, земные масштабы. Может быть, восторжествует одна из гениальных идей Циолковского, и появятся поезда вообще без всяких колес—на подушке из воздуха, поддуваемого под вагоны? Шаропоезд сегодня современнее других поездов, но пока дождешься его внедрения, он устареет морально. Шаропоезд не может опередить время. Часто — увы — случается, что за время, пока реализуется изобретение, само изобретение успевает устареть. А поэтому большой изобретатель непременно должен быть похож на охотника, бьющего по движущимся целям. Он обязан прицеливаться с опережением. Только тогда можно угодить в цель. А если опережение недостаточно, то изобретение неизбежно встретит сопротивление. Между изобретателем и экспертом разгорится спор. Он не будет мелкой стычкой между новатором и консерватором. Это будет высокий спор о будущем. Изобретатель считает изобретение жизненным, если оно не противоречит законам природы. Но изобретатели творят не под стеклянным колпаком, откуда выкачан воздух, а в обществе, в системе народного хозяйства. А в системе народного хозяйства действуют не только законы природы, но и экономические законы. Это властные законы, не считаться с ними нельзя. Вот о них-то и думает эксперт-хозяйственник, вступая с изобретателем в жаркий спор о грядущем. 3.16.Люди живут в железобетонном мире, а о памятнике изобретателю железобетона не думает никто. Был век каменный, был век бронзовый, был век железный, и находятся бетонщики-патриоты, которые нынешний век называют веком железобетона. Железобетон — основа нашего строительства. Вырос новый дом-небоскреб — железобетон. Исполинский мост шагнул через реку — железобетон. Богатырская крепость вросла в землю — опять железобетон. Доки, туннели, плотины, дворцы — всюду, везде железобетон. Небывалые каменные корабли выходят в море — железобетонные суда. У любого материала в мире есть своя ахиллесова пята. Неподатлив камень сжатию, но у него есть уязвимое свойство — слаб на разрыв. Прочно железо на разрыв, но у него есть слабая жилка. Под нажимом Железный стержень уступчив. Гнется стержень под нажимом. Железобетон отлично работает и на сжатие и на разрыв. Каркас из гнутых стальных прутьев залит окаменелым бетоном. Несжимаемое каменное тело стягивает неразрывный железный скелет. Тут разгадка секрета прочности железобетона. Кто же этот гений, создавший железобетон — несокрушимый союз железа и камня? В ряду изобретателей железобетона значится французский садовод Монье. Он выращивал в теплице пальмы и продавал их в кадках в Англию. Дела его шли неважно, так неважно, что, когда пришла пора отправлять товар, не хватило денег на кадки. С тоской слонялся Монье по оранжерее, не зная, что тут придумать. И ничего умнее не пришло ему в голову, как слепить кадку из глины на манер цветочных горшков, кучей валявшихся в оранжерее. Глины под рукой не оказалось, но в сарае нашелся цемент. Монье стал лепить кадку из цемента. Взял две деревянные бочки, одну побольше, другую поменьше, поставил одну в другую, а промежуток залил цементом. Когда цемент затвердел, Монье сбил обручи, разобрал доски. Обнажился гигантский цветочный горшок с цементными стенками, толщиной сантиметра в четыре. Кадка вышла тяжелой и громоздкой, но все это было бы полбеды, если бы не сказалась здесь слабая жилка цемента — непрочность на разрыв. У пальмы могучие корни, и когда они разрослись, то уперлись в цементные стенки и разорвали кадку изнутри. И опять ничего умнее не смог придумать незадачливый садовод, как надеть на кадку железные обручи, по обычному примеру бочаров. Но и обручи оказались слабы. Пришлось пустить вдоль стенок продольные железные стержни. Поверх цемента оказалась железная клетка. От поливок она ржавела и портила внешний вид. Аккуратный Монье, чтобы замазать уродство, положил поверх клетки еще один цементный слой. Клетка утонула в бетоне. Получилась на редкость прочная кадка. Стал Монье делать стенки все тоньше и тоньше, но кадка выдерживала напор корней. Монье понял, что сделал изобретение, и взял патент. Но изобретательство Монье не привлекало, пальмы были милей. Монье продал патент и дожил свой век, продолжая копаться в оранжерее. А русские инженеры Н. Пятницкий и А. Барышников построили в городе Николаеве железобетонный маяк — первое крупное сооружение из железобетона. И вот, спрашивается, кому ставить памятник? Садоводу, продавшему ненужный патент, или тем смелым инженерам, которые сумели разглядеть в цементной кадке облик будущих зданий маяков, плотин и пароходов? Монье сделал великое изобретение, но великим изобретателем не был. Мир Монье был узок и не простирался дальше садовой кадки. А великим изобретателем может слыть лишь тот, кто сквозь даль времен видит будущее своего изобретения и умеет показать его людям. Тот, кто видит за горами грядущего время, которое не видит никто. 3.17.Изобретатели работают на сегодняшний день человеческого общества, а большие изобретатели — на его грядущий день. Очень часто в капиталистическом обществе изобретатели творили на ощупь, вслепую, потому что грядущий день был скрыт от них непроницаемой темнотой. Драгоценные идеи омертвлялись и гибли в бесплодных спорах о грядущем. Гениальные мыслители Маркс и Ленин пронзили мрак прожектором научного знания, высветили дали грядущего, и на горизонте засиял коммунизм. Изобретателю стало легче понять смысл и перспективу своего изобретения, ведь он мысленно примеряет свой камешек к уже строящемуся фундаменту коммунизма. У любого советского изобретателя как бы дивный телевизор в кармане, сквозь окошко которого видно будущее. Телевизор выглядит в виде книжки. На обложке его напечатано «Программа Коммунистической партии Советского Союза». Она создана коллективным мозгом партии, рождена не одной мечтой, но и точным научным знанием. Миллионы советских людей участвовали в ее обсуждении, и страницы ее озарены миллионами прозрений. В ней картина грядущего человеческого общества, каким видят его сегодня миллионы глаз! В ней источник вдохновенья советских изобретателей. Но об этом будет особый рассказ. Примечания:3 Подробнее об ошибке Эдгара По рассказал писатель А. Ивич в своей интересной книжке «Приключения изобретений». 4 Книга К. К. Андреева не только яркая биография Жюля Верна, но и глубокое размышление о связи фантастики и реальности, действительности и мечты. 5 А не Нерону, как путают некоторые. |
|
||
| Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх | ||||
|
|
||||
